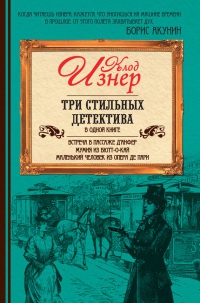«К черту! Ты должна доверять любимому человеку. Он, как и ты сама, ненавидит правила и плюет на условности! Carpe diem![292]» — сказала себе она.
Владелец «Ревю бланш» Таде Натансон,[293]с которым она недавно начала сотрудничать, прислушался к совету Жана Вюйара[294]и согласился в конце месяца выставить двадцать работ Таша на улице Лаффит.
— Двадцать, вы поняли? И отберите лучшие! — сказал он ей.
Она не должна ошибиться, а значит, придется просмотреть все парижские крыши, мужскую и женскую обнаженную натуру, античные сюжеты и ярмарки.
Таша поставила рядом «Семью канатоходцев» и «Укротительницу хищников». Кажется, этот тигр похож на чучело толстого кота. Грудное мяуканье подтвердило ее сомнения. Полосатая кошка, год назад подобранная Жозефом на улице, которой хозяева не удосужились придумать кличку и так и звали Кошкой, нетерпеливо помахивала пушистым хвостом, требуя, чтобы ее выпустили погулять.
— Ты права, моя красавица, голосуем за икарийские игры.[295]
Таша приоткрыла дверь мастерской, смотрела, как кошка перебегает через двор, и задумчиво мяла в руках кружевные перчатки, борясь с искушением отправиться в фотолабораторию к Виктору.
Кошка с трудом протиснулась в свой лаз и потрусила в сторону кухни. Справив нужду, она принялась шумно скрести когтями пол, давая хозяевам знать, что все в порядке и за ней нужно убрать. Виктор промыл снимки в цинковой ванночке, повесил их сушиться, погасил керосиновую лампу с замазанным красной краской колпаком и покинул лабораторию.
Она располагалась прямо в квартире. Там еще имелись кухня, туалетная комната и просторная спальня, куда при переезде с улицы Сен-Пер Виктор ухитрился втиснуть свой письменный стол с откидной крышкой и конторку. На стенах висели акварели Констебля, два портрета Гейнсборо и наброски тушью фаланстеры Фурье. Выполненный сангиной портрет матери Виктора, Дафнэ, в овальной раме соседствовал с изображением Таша в костюме Евы и портретом Кэндзи. Виктору пришлось расстаться с массивным столом и шестью стульями, но застекленный книжный шкаф он сохранил. Открыв дверцу, он взял с полки «Галантные празднества» Верлена, улегся на кровать и стал перелистывать томик в поисках любимого стихотворения:
Каблук высокий спорил с юбкой длинной,
Да так, что то ветер, а то косогор
Порой лодыжкой голой радовали взор
Наш на лету. И наслаждались мы игрой невинной…[296]
Чувство эротического наслаждения медленно погружало Виктора в сладостную истому, из которой его вывела Кошка: она вдруг решила, что ей совершенно необходимо размять лапки.
— Ах ты гадкое животное! — ойкнул Виктор. — Прекрати вертеться! — шепнул он и протянул руку, чтобы погладить пушистую красавицу, к которой успел привязаться.
Когда она окотится? Таша уверяет, что со дня на день. Что они будут делать с выводком котят? Неужели придется обратиться к милосердному Раулю Перо, секретарю комиссариата Ла Шапель, покровителю бездомных собак и оставшихся без хозяев черепах?
Он представил себе беременную Таша. Фигура Айрис уже заметно округлилась, что давало повод подозревать, что она и Жозеф нарушили запрет Кэндзи и познали друг друга задолго до того, как их благословил кюре прихода Сен-Жермен-де-Пре. Сам Виктор не принимал никаких мер предосторожности в интимных отношениях с женой, но Таша оставалась хрупкой и тоненькой, как девочка. Виктор был доволен — перспектива стать отцом его пока что не воодушевляла.
— Я не готов поступиться своим внутренним «я», — сказал он блаженно мурлыкавшей Кошке.
Да, ему уже тридцать четыре. С чувством собственника по отношению к Таша он кое-как справился, но что будет, если у них появится ребенок? Когда жена сказала ему о выставке, организованной «Ревю бланш», он ее поддержал, хотя это предприятие его вовсе не обрадовало — он был уверен, что все посетители-мужчины будут вертеться возле Таша, раздевая ее взглядами. Виктора не успокаивал даже тот факт, что вместе с картинами Таша будут выставлены три его фотографии.
А еще его угнетала необходимость постоянно врать Кэндзи. Он вел себя как лицеист, сочиняющий небылицы, чтобы оправдать свои прогулы.
— Давно пора признаться, что я сыт магазином по горло и хочу заниматься фотографией! — в сердцах сказал себе Виктор.
В дверь постучали — коротко, три раза. Кошка мгновенно скрылась под кроватью.
— Открыто! — крикнул Виктор.
На пороге стоял высокий бородач в бархатном берете. Виктор не удержался от язвительной реплики:
— Увы, я вас разочарую — Таша тут нет.
— Вот и хорошо, у меня к вам конфиденциальный разговор, Легри. Сожалею, что прервал вашу сиесту, но я на ногах с самого утра, так что… вы позволите?
Не дожидаясь ответа, Ломье плюхнулся на кровать рядом с Виктором. Мужчины обменялись неприязненными взглядами, Виктор сделал попытку подняться, и Морис Ломье насмешливо ухмыльнулся.
— Поторопитесь, Легри, вдруг войдет Таша? Что скажет эта невинная душа, если застанет нас в такой позиции?
До крайности раздраженный Виктор вскочил, разгладил костюм и закурил, забыв об обещании жене не дымить в комнатах.
— Успокойтесь, — бросил Ломье, кивнув на кресло.
Но Виктор садиться не пожелал, и Ломье тоже встал, уронив разложенные на столике фотографии.
— Надо же, какие сюжеты! Потрясающе! Кто бы мог подумать, что вас так заинтересует изнанка жизни нашего современного Вавилона! Я думал, вы более легкомысленны.
— А вы все так же привержены темной гамме?
— Мой бедный друг, в том, что касается живописи, вы безнадежно отстали от жизни. Знаете, что Ренуар проповедует юным умникам, которые выбрасывают в Сену тюбики с черной гуашью? «Черный — очень важный цвет. Возможно, самый важный». Ничего удивительного — с его-то фамилией…[297]
— Я с ним совершенно согласен, потому и люблю темные стороны жизни столицы.
— Ошибаетесь, вас интересует не черный, а… серый. А это всего лишь оттенок, согласны?
— Прошу вас, довольно об этом! Что вам нужно?
— Вот это рассудительность! Ну и хладнокровие! Я потрясен, я…
— Выкладывайте!
— Ой-ой-ой, как вы меня напугали! Ладно, — Ломье опустился в кресло. — Меня привело к вам деликатное дело, за которое я не очень-то хотел браться. Если бы Мирей Лестокар не заставила меня…