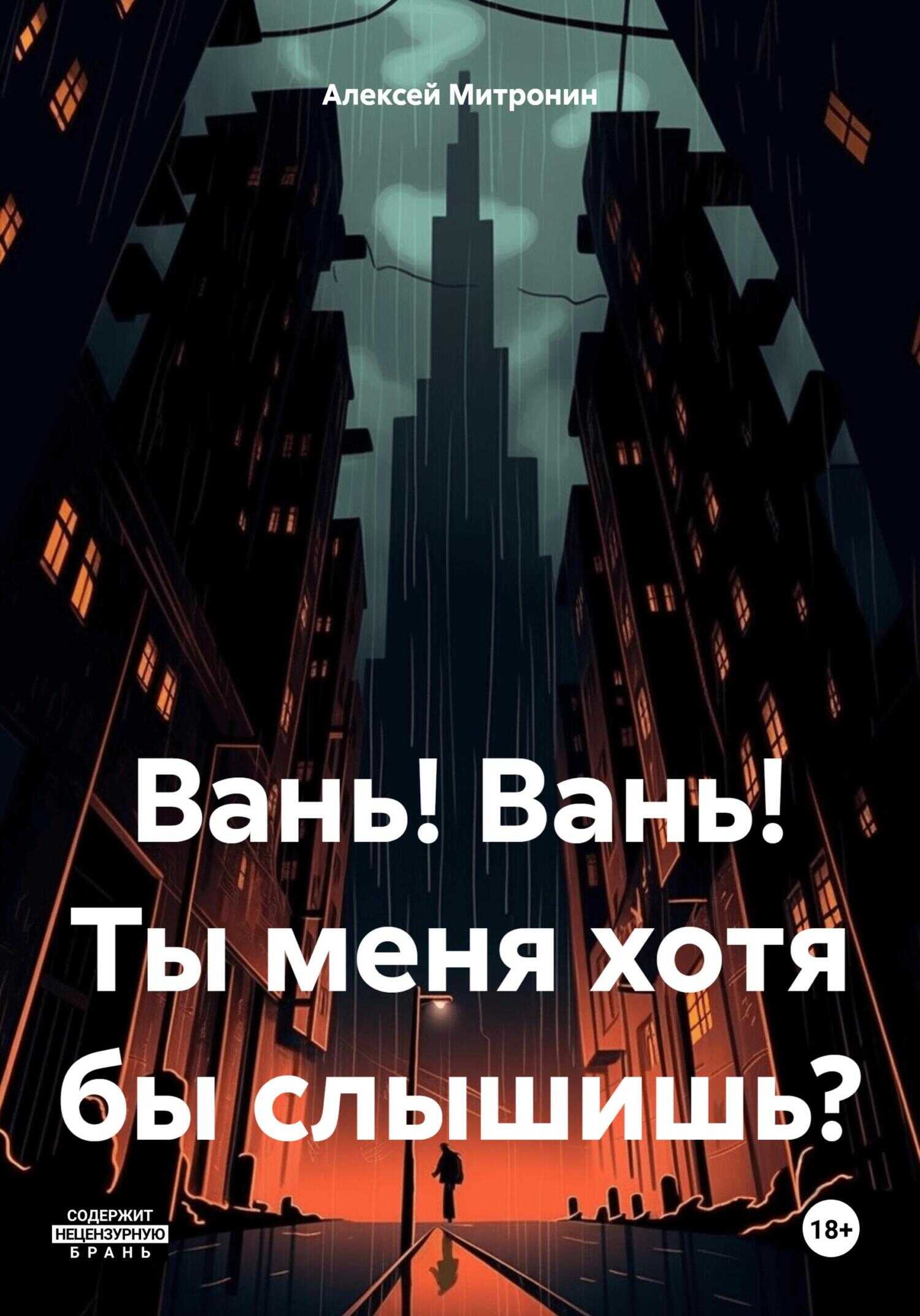образованный общими раздумьями о жизни.
Парабола оказалась для Пулатова тем наиболее удачным типом повествования, в котором осуществляется у него слияние восточного образа мышления и русской реалистической прозы, вносящей в стилистику, по его словам, ту долю серьезного, глубокого, что всегда подразумевается под понятием «русская литература».
А все эти, казалось бы сугубо литературные, противоречия, раздвоения — двух языков, языка и образа жизни, разных жанровых потоков, двух литературных традиций — органично и естественно сочетаются с осознанием двойственности, внутренней противоречивости целостных героев.
По представлению Пулатова, в литературе существует два типа героев, которые соответствуют принятому у древних бухарских филологов образному определению «санъати руз», что в переводе означает искусство, обращенное к дню, и «санъати шаб» — искусство, обращенное к ночи. Герой-современник, близкий и понятный в насыщенной и быстротекущей действительности каждого дня, — и герой, словно возникающий в прохладной, величественной и тихой ночи, полной эпической мощи и созерцания вечных истин. И оба героя не противопоставлены, а соединяются у Пулатова, обозначая реальные противоречия жизни и выводя к осознанию общих закономерностей человеческого бытия. Не таковы ли эпичный Каип и кажущийся его антиподом Алишо?!
Вот как характеризовал критик П. Ульяшов своеобразную интонацию повести «Впечатлительный Алишо»: «Возможно, скажут, что автор-де сам иронически относится к своему герою. Да, ирония — прекрасное свойство, но, смею думать, в повести об Алишо она не более чем игра и мало что меняет в сущности героя и в нашем к нему отношении. Потому что автор, на мой взгляд, относится к своему герою столь же серьезно, сколь и иронически, пожалуй, даже в основном серьезно».
И эта двойственность отношения выражена в самом заглавии повести. Оно иронично, ибо впечатлительность никогда не относилась к «мужским» добродетелям. Но может быть сказано и всерьез: обостренно воспринимающий. Это «совмещение» и стало стилевой доминантой всей повести и характера центрального героя.
Раздвоенность характера Алишо как его психологическое свойство имеет много истоков и проявлений. То жена Мариам разделяется в его представлении на сегодняшнюю жену и давнюю шестнадцатилетнюю возлюбленную и в этом раздельном восприятии сказывается неотвратимая смена ощущений «от сознания того, что наступила другая жизнь, жизнь дня, а ее надо признать, покориться — ведь ее ценности… совсем иные, чем ценности ночных фантазий; трудно сводить их, они разные и несравнимые, и в каждый момент принимаешь то, что ощущаешь истинным». А на эти частые перемены мнимого и подлинного накладывается свойство актерскойпрофессии героя, в которой заложено беспрестанное противоречие между изображаемой им жизнью и жизнью подлинной. Все это прекрасно уловлено Пулатовым и составляет основу тончайшего психологизма этой повести.
Во «Впечатлительном Алишо» Пулатов воссоздал, казалось бы, неприметные и маловажные, но на самом деле образующие эмоциональный мир человека впечатления, вынесенные из тех драматичных состояний любви, которые тридцатишестилетний актер счастливо испытал в своей жизни: восьмилетним первоклашкой к своей учительнице, восемнадцатилетним юношей к такой же, как и он, абитуриентке, с которой он и виделся всего два дня, да и то неизменно на людях; двадцатилетним парнем, изведавшим первый поцелуй и первую близость с женщиной; и вот теперь, десять лет супружества, надоевшего, но уже не могущего быть разорванным. Впрочем, автор тут же рассудительно определил устами своего героя эти тончайше воссозданные состояния как «тему детской влюбленности», «тему первой любви», «тему познания женщины», «тему спутницы жизни». Эту авторскую точность формулировок некоторые критики расценили как рассудочность: все, дескать, разъято, проанализировано, разложено. И в этом есть доля истины: при всей своей художнической впечатлительности Пулатов не любит писать «просто так», он всегда должен писать «зачем-то». Оттого-то он столь силен в создании параболических произведений: таких, где за всей пластичностью, психологичностью, проникновенностью открывается нечто большее, чем просто запечатленное состояние.
Размышляя об отличиях героя советской литературы 70-х годов от героя предшествующего десятилетия, Пулатов утверждал, что герой 60-х годов был больше всего озабочен самоутверждением в жизни, в работе, в творчестве, в любви: «он был энергичен, и нередко в ущерб карьере и спокойствию других». Нынешний герой предстает как бы «на своем месте», но что-то в его природе возмущается исподволь, что-то сосет по ночам; «он считает плодотворным нравственные сомнения и мучения, все, что относится к сфере человеческой совести». И хотя у самого Пулатова и в 60-е годы не было «энергичных людей», общую тенденцию он отметил справедливо. А самое главное — довольно точно определил тип своего героя.
И опять-таки многое в раздвоенности его героев открывается в «Жизнеописании строптивого бухарца».
У каждого человека есть тайное имя, внушает бабушка Душану. И в воображении мальчика это существо, обозначаемое тайным именем, воспринимается как «двойник, которого не обманешь, он знает все, каким бы ты хорошим ни притворялся, он дух иронии и противоречия». И когда Душан пробует прочесть свое имя наоборот, то получается Нашуд, что означает несостоявшийся, несовершенный. Можно сказать, что это тайное имя всех его героев, их жизненный тип. Таковы Каип, впечатлительный Алишо, завсегдатай Ахун, да и сам «имам» Душан в отрочестве. Удачливый «деловой» герой кажется Пулатову — а мы знаем, что не только ему — неинтересным, одномерным, не таящим в себе необходимого художественного разделения, расщепления между словом и делом, желанием и свершением, гордостью и неудовлетворенностью, влечением и самоограничением.
Заманчиво вымолвить, что любимый пулатовский тип героя представляет собой вечный тип «лишнего человека» в восточном обличии. Но это совсем не так. Если позволительно развернуть одно банальное сравнение, то перед нами ветвистое дерево, похожее на другие деревья той же породы, а отнюдь не ошкуренный столб, к которому прикрепили для экзотики или маскировки «восточные» ветви.
К рефлексии, составляющей неотъемлемую часть существования таких героев в европейской прозе, присоединяется у героев Пулатова восточная медитация. Если рефлексия представляет собой поглощающее всю энергию личности обсуждение предполагаемого действия, то медитация — склонность к размышлениям на вечные, общие темы.
А от этого типа героев — прямой путь к общему философскому осмыслению мира в его раздвоении, противоречиях. Множество таких соединений-противостояний прошло перед нами в повестях.
Самое броское из них — детство и старость, начало и завершение жизни, столь близкие друг другу по своей глубинной сути: мудрая наивность и наивная мудрость, переход из небытия в бытие и из бытия в небытие и т. д.
А какое изумительное противоречие, сконцентрировавшее всю изображаемую картину в «Прочих населенных пунктах», обнажил Пулатов в притче о святом и дереве, выращенном на ладони! Любопытно, что сам писатель в одной из бесед объяснял появление этой притчи в повести тем, что ему показалось, будто повесть теряла национальные черты, абстрагировалась до рассказа «вообще и обо всем». На