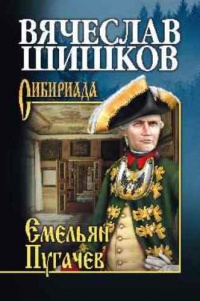Прикинувшись «азиатом», он по-русски ни слова не говорил и на допросе в Военной коллегии объяснялся знаками, а если и лопотал, то всякую неудобь-тарабарщинку.
— Не высмотрень ли Рейнсдорпа? Как знать?.. — выразил опасение главный судья, старик Витошнов.
— Может статься, и так… — подал голос угрюмый Горшков.
— А ежели так, то не иначе — шея его по петле стосковалась.
Полуехтов испугался, нижняя губа его задрожала, как у зайца, глаза осоловели.
— Да нет, господа судьи, — сказал молодой Почиталин. — Он кубыть действительно бухарец-купец. На мою стать, не следует чинить ему помехи, пускай себе торгует!
Полуехтов, прислушавшись к Почиталину, приободрился, даже оскалил в легкой ухмылке зубы. Осторожный Максим Григорьич Шигаев, все время наблюдавший бухарца, нажимисто проговорил:
— Нет, чего там… Повесить! Всенепременно повесить его!
Полуехтов пошатнулся, часто задышал. На щеках Шигаева заиграли улыбчивые ямки. Обратясь к судьям, он громко сказал:
— Надо скликать сюда бухарца, их десять человек живет в землянках подле мельницы. Ежели бухарец дознается, что оный пойманный тоже бухарец, так мы оставим его в Берде жить без выпуску под крепким смотрением, а ежели это русский перевертень, так мы его тотчас на перекладинку… Эй, казак, живо сюда бухарца! А этой птице связать назад руки…
В это самое время подъезжал к себе на тройке Пугачёв, сзади него с пиками отряд телохранителей.
Вдруг он видит: по снежной дороге что есть сил бежит бухарец в полосатом халате и чалме, за ним гонится Ваня Почиталин: «Держите, держите его!» Вот оба они шмыгнули в проулок, и Пугачёв, остановив тройку, приказал:
— Взять!
Купчика вволокли во дворец два молодых казака, а следом за ними пришел и запыхавшийся Почиталин. Один из казаков, двигая бровями, заявил:
— Это, надежа-государь, не бухарец и не персюк, это кулачный боец из Оренбурга. Он, тварь, самый русский, он супротив наших воевать намеднись выезжал на коне…
— А-а-а, — протянул Пугачёв и прикрыл правый глаз. — Так это ты моему верному казаку зубы клюшкой выбил?
— Я, — ответил Полуехтов. Он хотел многое рассказать Пугачёву и не мог: его трепала нервная дрожь, рукава длинного халата встряхивались, зубы стучали. Он только выдохнул:
— Винца бы… Невмоготу мне…
Пугачёв умел ценить храбрость и на оробевшего молодца посматривал со снисходительной улыбкой. Пока молодой гуляка тянул из стакана настоянную на перце водку, Почиталин торопливо докладывал Пугачёву все, что знал о пойманном купчике.
— Военная коллегия присудила оного шпиона вздернуть, — заключил секретарь.
Забористая водка уже успела всосаться в кровь курского купчика, трясение кончилось, он вновь почувствовал в себе прилив дерзости.
— Вешать меня не за что, — молвил он и с наглостью посмотрел на Почиталина. — Вам такого права нет надо мной… Я человек не разбойный, а мирный.
— Хорош мирный! — улыбнулся Пугачёв. — Я, ведаешь, сам видал, как ты наших-то… И велели мы тебя живьем словить, чтоб быть тебе при мне, люди отчаянные мне любы… А ты и сам к нам припожаловал. Чего ради, не дождавшись святок, бухарцем-то вырядился да ко мне в таком обличье дерзнул?
— А вот слушай, хозяин, — проговорил купчик и принялся рассказывать Пугачёву все свои похождения, вплоть до последнего свидания с Рейнсдорпом.
— Ты дай мне, хозяин, удостоверение, что я у тебя был и с тобой разговор имел, да отпусти-ка меня за ради Христа либо к папаше моему в Курск, либо в Оренбург…
— А что у вас деется в Оренбурге, ну-ка отвечай. Ась?
— А в Оренбурге у нас расчудесно, всего вдосталь, народишко живет безбедно, войсков боле двадцати тысяч…
Пугачёв, охватив грудь руками, сердито захохотал, закачался в кресле, крикнул:
— Ах ты, негодник! Ах ты, подлая твоя душа! С голоду вы там все, дьяволы, подыхаете, лошадей жрать начали…
Полуехтов таращил глаза, молчал.
— Я б тебя, чувырло неумытое, немедля повесить приказал, да вот за проворство, за отчаянность твою прощаю тебе. Оставайся у меня служить, сыт будешь и награду примешь от меня.
— Нет, хозяин! Я не в согласьи…
— Какой я тебе хозяин! — поднял голос Пугачёв. — Ты раб мой, а я твой царь…
Винные пары затуманили голову молодого забулдыги. Глаза его стали дикими, голос наглый, скандальный, он потерял всякую волю над собой.
— А мне горя мало — царь ты али кто! — выпучив глаза, закричал он и покачнулся в сторону Пугачёва. — Ты только дай мне знак какой алибо записку, что я был у тебя.
Улыбка, похожая на судорогу, тронула лицо Пугачёва, брови его сдвинулись.
— Так знак, говоришь, тебе?
— Без знака не уйду!
— Ладно, я тебе знак сделаю… Эй, обрежьте-ка ему правое ухо да спровадьте немедля с поклоном Рейнсдорпу.
Купчик сразу отрезвел, упал Пугачёву в ноги:
— Батюшка, царь-государь! Батюшка!..
— Стой! Как прозвище твое?
— Полуехтов, царь-государь! Полуехтов…
— Ну, так таперь Полуухов будешь… Взять его!
2
Пугачёв сидел в маленькой боковой горнице за фасонистым, на гнутых ножках, столом, придвинутым к самому окну, чтоб лучше видёть. Большой, широкоплечий, он, ссутулясь, громоздился кое-как на легком золоченом стуле, держал в правой, испачканной чернилами руке гусиное перо, смотрел в четко написанный Шванвичем на особом листке русский алфавит и с напряжением выводил на бумаге робкие каракули: палочки, хвостики, кружки.
От натуги на носу и лбу выступила у него мелкая россыпь пота, он прикрякивал, поскрипывал зубами, ударял пяткой в пол, но толку было мало.
Без сторонней помощи осилить грамоту — дело многотрудное. «Эх, голова, голова, — горестно укорял себя Емельян Иваныч, — кабы знала ты, голова, да ведала сызмалу, не то было бы. А теперь, не иначе, катиться тебе, темная головушка, с крутых плеч долой, а все из-за того, что темная!»
Иногда он взглядывал за окно, в синие сумерки: там проезжали с песней казаки, повизгивал полозьями по каленому, наезженному снегу обоз. А вон прошагал вовсе трезвый поп Иван, опираясь на длинную палку с завитком; пробрела вдвое перегнутая временем старуха, прибежала с санками гурьба ребятишек. Жизнь шла своим чередом, и никому не было дела до мучительного труда Емельяна за этими самыми «буками, ведями, глаголями».
За белыми пуховыми крышами нежно блестел на светло-зеленом небе тонкий серп месяца. На улице крепчал мороз, а здесь, в натопленной вволю горенке, было жарко, как в бане. Царь сидел в одной рубахе, с расстегнутым воротом, обнажив белую грудь со старинным серебряным крестом на гайтане и «царскими знаками» под правым и левым сосками. Босые, начисто отмытые ноги его отдыхали от узких щегольских сапог, широкие, как юбка, алого сукна шаровары касались пола.