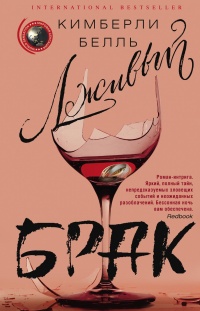вместе на несколько дней. То, как этот праздник отмечали там, на первой моей ферме, было мрачно, но не в пример лучше, чем здесь. Мы с Ким Ли откладывали немного денег из каждого конверта, который нам давали по пятницам. Мы покупали что могли в магазине на отшибе в городе. На второй год нашего пребывания в стране мы обнаружили на полке с чечевицей и рисом пюре из маша[10] быстрого приготовления в пакетиках и разрыдались от смеха. Радость. Облегчение. Мы готовили еду где-то в два раза меньше, чем обычно готовили дома, и делились липким рисом Bánh chưng[11]с нашими соседями из Польши и Румынии. Еда им нравилась, правда нравилась. В то время пироги казались какими-то странными на вкус, недостаточно хорошими, но оглядываясь назад с этого плоского болота, я думаю о той еде, словно это было меню со званого ужина. Девять человек в доме, рассчитанном на двоих, матрасы на полу, сидим, скрестив ноги, между нами дымящиеся миски с едой, банки с колой и бутылки с пивом. Ребята из Польши и Румынии относились к нам по-доброму. По-справедливому. Я не пила как следует с того дня, как покинула первую ферму. Мать Ленна не пила, так что и сам он тоже не пьет.
Когда возвращаюсь в дом, там холодно, поэтому я растапливаю печь ивняком и ложусь отдохнуть на кровать на втором этаже. Ленн дает мне днем полчаса на отдых из-за «детеныша». Я лежу, положив руки на ребенка, на свой живот, на мой твердый, постоянно меняющийся низ живота. Что будет с этим неподвижным маленьким человеком? Как я приведу его в этот мир, в это место; как буду заботиться о нем? Я просила Ленна сходить к врачу или акушерке, но он ответил: «Эт навряд ли». Я просила его о подгузниках и кроватке, о детской одежде, о вещах, которые, как я знаю или думаю, что знаю, понадобятся малышу. Он не обращает внимания на мои просьбы. От таблеток пульсирует в голове, но они помогают лодыжке. Это очень опасное равновесие. Когда до конца перерыва остается десять минут, я проваливаюсь в глубокий сон, а потом просыпаюсь, и часы показывают без десяти пять. Я в панике карабкаюсь по перилам и, крепко держась за них подмышкой, спускаюсь, словно с горного перевала, и оказываюсь внизу как раз перед тем, как Ленн появляется в прихожей и снимает свой синий комбинезон, ботинки и шерстяную шапку.
– Что-то пирогом не пахнет. Стряслось што?
– Я развела огонь, скоро будет готово.
Он идет в ванную и закрывает за собой дверь.
Я достаю пирог из холодильника. Я сделала его вчера из остатков сухой жареной курицы. Кладу его на самый верх в духовке, разжигаю огонь, открываю поддув, чтобы огонь смог разгореться.
Ленн возвращается в комнату и садится, чтобы посмотреть записи.
– Бестолково ты раковину помыла. Мать каждый день ее хлоркой мыла и после терла.
– Хорошо, – говорю я в ответ.
– Ну-ка погоди.
Я проверяю пирог в духовке, и что-то подсказывает мне, что от запаха пирога он подобреет.
– Ты там сколько с ногой провалялась?
Я перевожу взгляд на него.
– Еще раз такое выкинешь, и я заберу письма твои, поняла? Тут тебе не долбаный летний лагерь, мать, бывало, до крови себе пальцы стирала, работая, а потом появляешься ты, за жилье не платишь, горя не знаешь, вваливаешься ко мне в страну, в мой дом и просто валяешься! – Ленн поворачивается и смотрит на меня. – Не потерплю такого, Джейн, слышишь?!
Меня зовут не Джейн.
– Я пойду свиней кормить, чтоб, когда я вернулся, пирог на столе был!
Когда он уходит, я иду проверить пирог. Он разогревается, тесто подрумянивается, но начинка, скорее всего, еще холодная. В прошлом месяце Ленн забрал мою ID-карту. Я забыла положить его полотенце – то маленькое, которое он использует после того, как заставит меня принять ванну. Я не достала его из бельевого шкафа и не положила на его сторону кровати, а когда пришло время кончать, Ленн застонал совсем не так, как обычно. Словно ему было больно без этого полотенца. А потом он отвел меня вниз и заставил положить три оставшиеся вещи на диван, обтянутый пленкой, и выбрать из них одну. Поэтому теперь я боюсь, что, если так и дальше пойдет, я забуду свое настоящее имя, свой день рождения, место рождения, и у меня не будет ID-карточки, чтобы напомнить мне об этом.
За окном виден свет.
Я ковыляю к окну, вытираю рукой испарину на стекле. У закрытых ворот на полпути стоит грузовик. Я открываю входную дверь, и от холодного воздуха моя кожа покрывается мурашками.
Это пожарная машина.
Из нее выходят люди. Я выхожу на улицу.
Они что-то кричат, но я их не слышу. Они все, как подобает, одеты в форму: каски, отражающие жилеты, ботинки.
Их где-то трое или четверо. Мужчины идут ко мне. Я поднимаю руку, и их голоса затухают за звуком квадроцикла Ленна, который несется к ним во всю прыть. Я смотрю, как они разговаривают. Один из пожарных смотрит на меня и затем пожимает руку Ленна, потом они забираются обратно в машину и уезжают.
Глава 8
Наступили пасхальные выходные, и Ленн сажает масличный рапс. Он говорит, что это самая важная культура в году.
Я помогаю Ленну с оформлением документов на ферму, субсидиями и заказами. Я лучше разбираюсь в цифрах, чем он, поэтому Ленн мне не мешает. Он ждет, что я буду мыть, убирать и готовить как обычно, но с моим беременным животом, спиной и лодыжкой, распухшей как никогда, мне нужно больше сидеть. Я работаю за компьютером, а он наблюдает за мной.
Сын Фрэнка Трассока – пожарный. Ленн никогда не говорил мне, что здесь делала пожарная машина, но в тот вечер я подслушала его разговор по телефону. Он разговаривал с Фрэнком. Ленн спрашивал о новой женщине в деревне, женщине с рыжими волосами. В это время года небо становится самым интересным. Цвета и их глубина. Вихри, облака и нереальные миры. Слои облаков, как пласты осадочных пород, накапливающиеся веками. Сегодня утром все, что находилось над землей, было розовым.
– Иди картошку ставь, – бросает мне Ленн, когда входит в комнату. Дверной косяк за его спиной цвета серых сумерек. – И штоб яйца не пережарила, желтки течь должны.
Он садится за стол, чтобы проверить записи за день, пока я достаю из морозилки замороженные картофельные дольки.
– Помнишь, ты