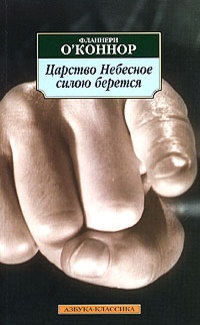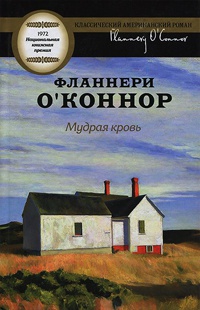весьма скромной миссии. Слова Конрада значат: его постоянно в чём‐то ограничивала реальность, но она для Конрада не то же самое, что видимый нам мир. Его занимало вынесение приговора миру зримому, потому что тот подразумевает существование незримого. Свою авторскую позицию Конрад разъяснял следующим образом:
«Если совесть [писателя] чиста, он может ответить тем, которые от избытка мудрости, ищущей во всём немедленной пользы, требуют, чтобы их поучали, успокаивали, утешали, развивали, поддерживали, пугали, поражали или очаровывали: "Я поставил себе целью силой печатного слова заставить вас слышать, заставить вас чувствовать и, наконец, прежде всего – заставить вас видеть. Это – и ничего более, но в этом всё. Если мне это удастся, то вы обретёте (соответственно вашим заслугам) поощрение, успокоение, страх, очарование – всё, чего вы требуете, и ещё, может быть, тот проблеск правды, о котором вы забыли попросить"» [51].
Из всего сказанного мной можно сделать вывод: мол, пишу, чтобы заставить читателя видеть то же, что вижу я, и писательство для меня – это в первую очередь миссионерство. Давайте разберёмся.
Когда я выступала здесь прошлой весной, одна из девушек спросила меня: «Зачем вы пишете, мисс О’Коннор?», на что я ответила: «Потому что у меня это хорошо получается». Я ощутила, что аудитория внутренне не одобряет такой ответ. Он не казался людям «высокоумным», но я не могла ответить иначе. Ведь меня не спросили, почему я пишу так, как я пишу, а почему я вообще пишу о чём‐то. «Законный» ответ тут можно дать только такой.
Никому не простительно писать прозу, чтобы публика её поглощала, если только он не призван к этому занятию, потому что у него дар. Если проза не хороша сама по себе, от неё будет мало пользы, такова уж её природа.
Любой дар – серьёзная ответственность. Непостижимый, полученный ни за что и авансом, а чему он именно служит, вероятно, останется скрыто от нас навсегда. И как правило, добросовестное пускание в дело художником своего дара сопряжено с определёнными лишениями. Искусство – это добродетель практического ума, а любая добродетель на практике требует определённого аскетизма, а не «высветленные» части своего «Я» придётся ампутировать. Писатель должен судить о себе глазами стороннего, и подчас враждебного ему наблюдателя. Начало пророческое в душе писателя должно видеть и то, которое неприглядно. Не искусство «растворяется» в личности, а личность скрывается в пучине искусства и доходит до самоотречения, сталкиваясь с тем, что зримое надо согласовать с незримым, и воплощая эти требования. Разрушает право автора применять дар по своей воле, мне кажется, некая разновидность мании величия, самообожествление. То ли это гордыня реформатора или теоретика, то ли всего лишь наивная самооценка, когда критерием истины служит собственное простодушие. При чтении не в меру шумных писателей из Сан‐Франциско возникает такая мысль: чтобы стать художником, перво‐наперво надо «слететь с катушек», и тогда все ваши бредни обретут великую ценность. Дикие эмоции, чьи бы то ни было, тут выставляются напоказ. Просто потому, что дикие. И потому что эмоции.
Фома Аквинский называл искусство «здравомыслием созидающим». Определение столь же прекрасное в своей хладнокровности, и если сегодня оно не на слуху, то лишь потому, что здравомыслие потеряло былую «твёрдую почву». Как «безблагодатной» стала людская природа, так и здравый смысл отделился от воображения, а это всегда означает гибель искусства. Художник использует свой разум, ища «разумное» в том, что он видит вокруг. И быть разумным для него означает находить в предметах, положениях и в череде событий дух их своеобразия. Не так уж это легко и просто. Ты вторгаешься в пространство непреходящего, что осуществимо только благодаря глубоко прочувствованному и решительному преклонению перед правдивым.
Из всего этого следует, что технических «приёмов», на основе применения которых можно этот процесс описать, не существует. Если в вашей школе есть уроки литературы, на них следует обучать не тому, как писать, а тому, что можно, и чего нельзя выразить словами и тому, что слово надо уважать. Независимо от стажа и мастерства писатель постоянно учится писать, в его ремесле это процесс хронический. Как только он «научился», и если ему заранее известно, что он найдёт, и каким образом расскажет о том, что ему давно известно, или того хуже, не расскажет ни о чём, на писателе можно ставить крест. Но если он чего‐то стоит, то черпает силы в сфере, слишком необъятной, чтобы он мог охватить её своим умом, а результат всегда будет для него ещё большей неожиданностью, нежели для его читателей.
Даже не знаю, что хуже – иметь плохого наставника, или совсем никаких. В любом случае, по моему мнению, миссия учителя должна быть во многом: научить, как не надо. Он не может вживить в вас талант, но если найдёт его в вас, то может постараться не дать ему свернуть совсем не туда. Мы можем учиться, как надо писать, но эта дисциплина всё‐таки затрагивает не только писательство, но и весь процесс нашего «здравомыслия». Хотя бы такие преграды, как неискренность, фальшь и эгоцентризм перестанут мешать разуму пишущего. Если ты донёс свою мысль, не «продешевив», то твоя писанина хотя бы не окажется «дешёвкой», даже если ты не ахти какой стилист. Учителю надо заниматься «вырыванием сорняков». Это и есть цель обучения. Для писателя нет неполезных дисциплин: логика, математика, теология и, само собой, рисование. Словом, всё, что помогает видеть и заставляет присматриваться. Писателю отнюдь не зазорно глазеть на что угодно. Для него не существует вещей, не достойных его внимания.
Сегодня мы часто слышим упрёки в адрес писателей, которые, оккупировав кафедры колледжей и универов, пасутся на академических харчах, вместо того чтобы охотиться за правдой жизни из первых рук. Хотя на самом деле, любому, кто пережил опыт своего детства, этой самой правды хватит до конца дней. Если у вас ничего не получается потому что «опыта мало», то накопление его делу не поможет. Писатель работает, сортируя накопленные впечатления, но не уходит в них «с головой».
Не душно ли моим коллегам в стенах университетов? Этот вопрос я слышу повсеместно. По мне – напротив, чересчур вольно им в этих стенах дышится. Скольких бестселлеров можно было бы избежать, попадись будущему автору преподаватель построже. Сегодня писательством прельщается множество бесхребетных личностей, обремененных «поэтическими» чувствами в душе или страдающих избытком сентиментальности. Гранвиль Хикс [52] в рецензии на роман Джеймса Джонса [53], приводит слова Джонса:
«Когда нас расквартировали в Хикэм-Филд [54] на Гавайях,