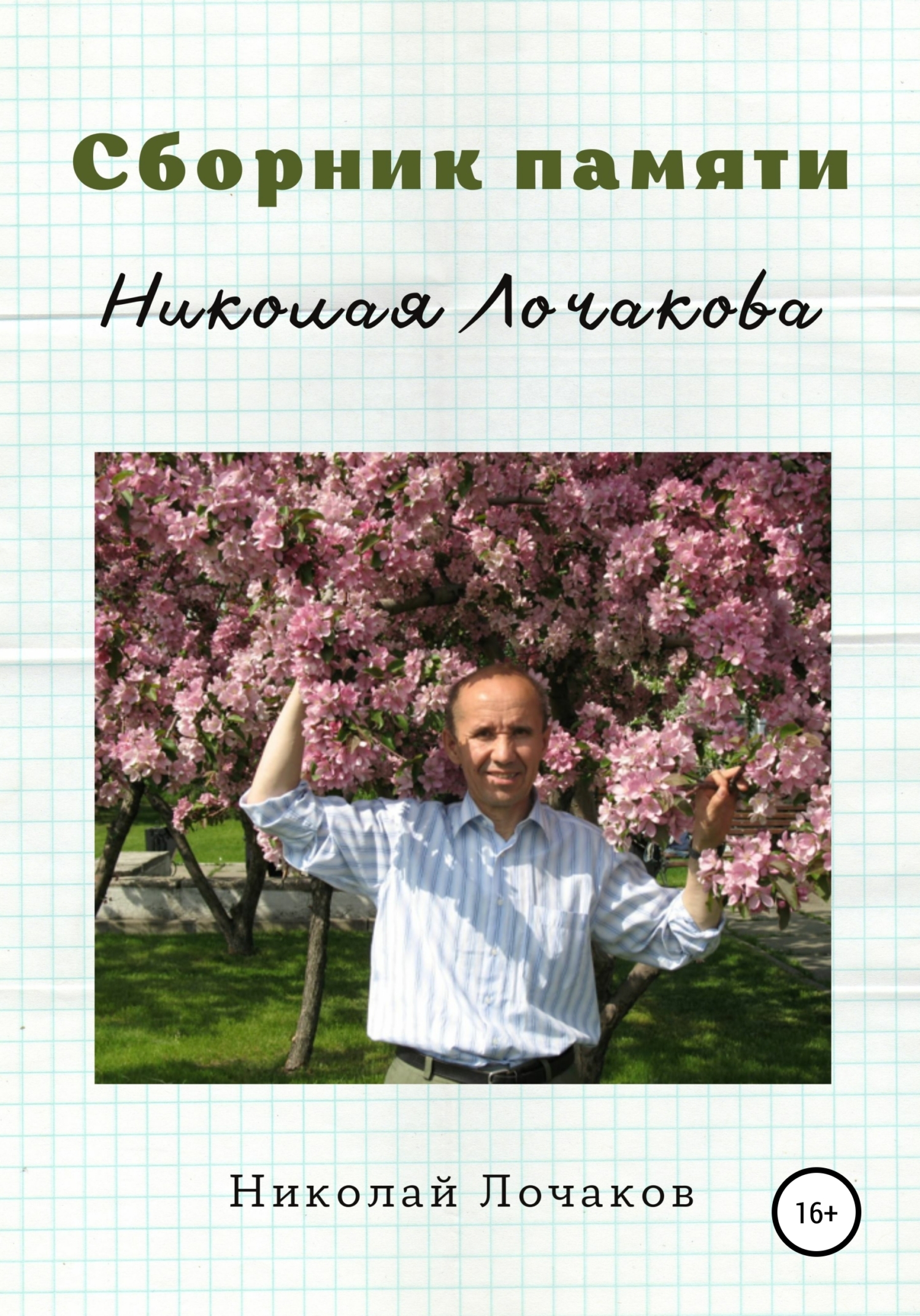и о моем слове. Поэтому я не двинулся с места; секунду спустя, с одинаковыми интервалами, но не синхронно, послышались вздохи Беатрис и рычание Мусимбвы, и я понял, что начался предварительный этап; затем я слышал только стоны Беатрис, а Мусимбве, сдавленному ее могучими ляжками, лишь изредка удавалось высунуть голову из этих тисков, чтобы наполнить легкие воздухом, прежде чем устремиться в неизведанное, к запасам влаги в недрах Беатрис, и все это четко отдавалось у меня в ушах, виделось мне воочию: их разгоряченные тела, их все более короткие и шумные вдохи-выдохи, капельки пота и кристаллики соли на их коже; да, я все видел, сам того не желая, и тогда я сказал себе: надо бороться, надо взять себя в руки и на чем-то сосредоточиться, чтобы не реагировать на звуки в спальне; эта стойкость словно провоцировала моих друзей, ибо, как только я принимался искать достойную тему для размышлений, Беатрис начинала стонать, Мусимбва пыхтеть, кровать скрипеть, а их телеса сшибались со звуком, какой издают шлепанцы, когда их выбивают один о другой; черт подери, опять начинается, подумал я и напряг все силы, чтобы найти проблему, способную меня отвлечь, но ничего не получалось, все завесы, которыми я старался защитить мой разум, рвались, как папиросная бумага, от шума, производимого Беатрис (теперь она ухала, как сова) и Мусимбвой (он орал на языке лингала поэтичные непристойности: «Nkolo, pambola bord oyo. Yango ne mutu eko sunga mokili»; я понимал только несколько слов, которым он меня научил); так или иначе, думал я, он произносит их, прекрасно выдерживая ритм, избегая монотонности, варьируя основную тему, но не теряя доходчивости; тебе надо вырваться из этого, Диеган, почитай что-нибудь, уткнись в книгу, и я чуть не раскрыл «Лабиринт бесчеловечности», чтобы затеряться в нем, точнее, спрятаться, но передумал, потому что при таком шуме читать невозможно; а шум не становился тише, наоборот, он усиливался, набор звуков плотской любви, кантилена молодых, здоровых тел, грохот в машинном зале радикального траха; да, я слышал этот шум, конечно же, я все слышал, Беатрис ревела, как носорог, Мусимбва визжал, как свинья, – слышал и жалел, что я такой, всегда слишком робкий, слишком сложный, слишком зажатый, слишком отрешенный, слишком интеллектуальный, слишком сухой, слишком замкнувшийся в гордом и глупом одиночестве, поэтому я закрыл глаза, решившись страдать дальше, смириться и ждать, пока это пройдет, пока это кончится, ибо все в конце концов кончается, panta rhei, все течет, как сказал мудрый Гераклит; ну и ладно, сказал я себе, закроем глаза и будем ждать, когда оно все истечет, но стоило мне спрятаться под веками, словно ребенку в «домике» из ладошек, как у меня возникла мысль или, точнее, властное желание – я должен их убить, должен взять нож, войти в спальню и вонзить клинок в это тело, ведь тело теперь там было только одно: два тела были слиты воедино громадным желанием, от которого я был отлучен; и в этом теле я должен проделать дыры, методично, не спеша и аккуратно, как профессиональный убийца: сначала в сердце, затем в живот, потом в аорту, и еще раз в сердце – чтобы удостовериться, что эта упрямая штуковина, причинившая людям столько страданий, наконец перестала биться, – потом в пах и в бок; понятно, я не касался лица, потому что лицо – это священная территория, это храм, который нельзя осквернять насилием. Лицо – это знак Другого, страдальческий призыв, который через меня направлен всему человечеству (в свое время я читал Левинаса), но тело я истыкал бы ножом повсюду, пока оно не перестанет испытывать наслаждение или пока оргазм не завершится смертью; вот какое желание я ощутил, когда не мог заглушить терзавшие меня звуки (в тот момент оба рычали); и надо же – божественное Провидение словно бы способствовало моим зловещим планам: на кухонном столе валялся большой нож, мне было достаточно схватить его, чтобы снова взять ситуацию под контроль, и я уже улыбался, представляя себе эту сцену, разрабатывал сложные сценарии, страшнее которых еще не бывало в хронике происшествий; и вдруг, в тот самый момент, когда я собирался встать и пойти за оружием, я ощутил чье-то присутствие рядом со мной; открыв глаза, я увидел, как Христос шевелится на огромном распятии, висевшем на стене; хоть я и не христианин, более того, я убежденный анимист, поклоняющийся панголам (так называются у нашего народа духи предков) и верховному богу Роог Сену, – увидев это, я инстинктивно перекрестился и стал ждать; как ни странно, я совсем не был испуган, только слегка удивлен; я верю в явления призраков и в то, что сверхъестественное может принимать зримый облик, поэтому я просто ждал, когда Христос извлечет гвозди и сойдет с креста, что он вскоре и сделал, – надо сказать, с большой ловкостью и изяществом, учитывая обстоятельства, – сел на диванчик напротив моего кресла, снял окровавленный терновый венец, сползший ему на лоб, поднял на меня кроткий взгляд голубых глаз, и я поспешил укрыться в этой тихой гавани; тем временем изголовье кровати яростно ударялось о стену, но я уже не придавал этому значения, ибо важен был только тот, кто сидел напротив; и вот он заговорил со мной, не открывая рта, заговорил vox cordis[7], и это утешило меня во всех моих душевных горестях, развеяло мои кровожадные мечты, мое уныние, мою жалкую ревность, мое одиночество; это были простые, но проникновенные слова, секрет которых ведом только ему одному, и я слушал их, несмотря на крики, раздававшиеся в такт звонким шлепкам, я слушал Христа и усваивал его наставления, его притчи (какой писатель не мечтал бы сочинить такие?); он говорил долго, потом умолк, и тогда мы оба узнали последние новости из спальни, очевидно, близилась кульминация, по этим истошным воплям уже нельзя было понять, кто что делал; я взглянул на Иисуса, и на долю секунды мне почудилось, что и в его взгляде тоже промелькнуло желание оказаться в спальне, но скорее всего, в это время я заснул и увидел сон либо в меня вселился дьявол, тем более что в следующую долю секунды Сын Человеческий сообщил: он должен уйти, ибо в его внимании нуждаются другие заблудшие души; затем он встал, и его божественное сияние ослепило меня, я спросил, нужна ли ему помощь, чтобы забраться обратно на крест, где он пребывает уже два тысячелетия, и предложил подставить спину, но он рассмеялся (до чего же благотворный и добрый смех у Христа) и сказал: «Думаю, я сам справлюсь»; и правда, он сумел снова закрепиться на кресте без посторонней помощи, не