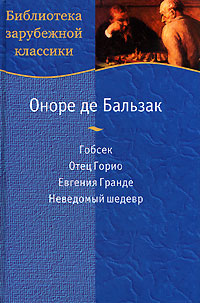вдруг сменилось растерянностью.
Нет, она не собиралась узнать, легко ли, трудно ли им живется, почему не заводят детей; вопрос, взволновавший ее, был гораздо горше: способны ли они страдать, если им случится потребовать друг от друга насильственной смерти еще невыправившейся жизни, которую они сотворили с общего согласия.
Но такого разговора не получилось.
— Как у вас там в селе? — спросила Наташа.
— Пришла бы хоть раз, посмотрела, — отозвалась Татьяна. — Тут ходьбы-то четверть часа.
— Я был там три раза, — проговорил художник. — Жаль, что вас не встретил… Я выставку готовлю.
— У нее муж стрелок, с револьвером ходит, — рассмеялась Наташа.
— Что же он, не человек, что ли? — сказала Татьяна.
— Вот, вот, — радостно подхватил художник. — Она все понимает, не то что вы, тряпичницы.
— Но, но, Виталик! — погрозила Наташа. — Закосел.
— В самом деле хватит… Хватит, — оборвала его худая соседка, стало быть, жена. — Пошли домой.
— Да я трезв, как телеграфный столб, — ясным голосом возразил художник. — Просто хорошо, что еще на свете не перевелись истинные женщины.
— Там у вас когда-то граф жил, — потянулся в сторону Татьяны очкастый. — К нему Вересаев приезжал, верно?
— Не Вересаев, а Валерий Брюсов, — поправила его жена художника. — И Верещагин…
— Он и сам писал книги, граф… — сказала Татьяна. — Я читала одну его книгу.
— Что вы говорите! — даже подпрыгнула жена художника. — Это же редкость. Я собираю книги…
— Собираешь, но не читаешь, — вставил художник.
— Замолчи ты, — отмахнулась от него жена. — Достать бы эту книгу… Я бы заплатила.
— Не получится, наверно, — задумалась Татьяна. — Непродажная она. С надписью.
Жена художника посмотрела на нее жадно, с немым ожиданием.
— Я вспомню, — кивнула Татьяна, помолчала. — Вот… «Глубокочтимому Савелию Евграфовичу за понимание совершенства природы… — как бы силясь припомнить, что там было дальше, обвела всех напряженным взглядом, — …и несовершенства человеческого рода». Все.
— Какое у вас, извините, образование? — поинтересовалась жена художника.
— Восемь классов…
— А что толку, что вы институты закончили? — сказал художник.
— Отстань, Виталик…
— А кто он был, этот Савелий… как его…
— Савелий Евграфович главным садовником состоял, — пояснила Татьяна. — Был дедом бабки Ульяны…
Неожиданно к горлу Татьяны подкатил тугой ком. Ясно, как в яви, виделась ей бабка Ульяна: сидит в обнимку с оставленными на нее детьми, ждет. Ровным тихим голосом, в котором слышится усталость от жизни, рассказывает на сон грядущий сказку.
Татьяна медленно встала, ничего не сказав на прощание, заперлась в ванной комнате.
Минут через десять, проводив гостей, постучалась Наташа.
— Что с тобой, лапочка? — недовольно спросила она. — Была в таком ударе и вдруг…
— Я к тебе, Наташа, по серьезному делу пришла. Я тебе правду сказала насчет Никиты…
— Что же он натворил, твой Никита?
— Выходит, что он крупную кражу совершил на базе. Но это не он, не он, — торопливо заверила Татьяна. — А улики против него. Крыть ему нечем.
— Да, положеньице, — начиная нервничать, произнесла Наташа. — Чего ты от меня-то хочешь? Юристов у меня знакомых нет, да и вмешиваться в это дело некогда — у меня путевка в санаторий.
— Понятно… Кто знал, что все пойдет кувырком. Надеялись на лучшее, на радостях четвертого решили завести. Пять месяцев уже скоро…
Внимательно оглядев Татьяну, Наташа непритворно испугалась, скрестила руки на груди. И сразу сделалась похожей на ту Наташу, которую Татьяна помнила студенткой, когда еще к ней можно было подойти запросто, пристать с глупым вопросом, она не отвернется. Но лишь на мгновение открылась в теперешней Наташе прежняя.
— Не понимаю я тебя, — зябко передернула плечами она. — Допустим, не было бы этой истории с Никитой… Все равно дикость какая-то… Ну, можно одного, двух. А твои-то годы тоже идут. Что ты хорошего видела с ними, с тремя, а? Я бы тебе пилюль импортных дала, японских. Сто процентов гарантии…
Осеклась, достала из шкафчика пузырек, считала капли, неслышно падавшие в стакан. Заметила она, как поднялись тяжело смежившиеся веки Татьяны, показав глаза, в которых видна была сдержанно суровая гордость.
— С тобой инфаркт схватишь, — сказала Наташа. Смешав капли с водой, выпила. — Мадонна…
— Ими, детьми, жили, — словно разговаривая сама с собой, сказала Татьяна. — Никита в них души не чаял. Только на прощание сказал против четвертого…
— Все понятно, лапочка, — оживилась Наташа. — Это я на себя беру. Все будет шито-крыто. Деньги у тебя есть?
— А сколько? — робко спросила Татьяна.
— Ну, минимум полсотни, — сказала Наташа так легко, словно речь шла о рубле. — Это тебе не воробьев из рогатки сшибать…
— Когда?
— Тянуть тебе невыгодно. На завтра попробую договориться. Утром позвони мне. Если все будет в ажуре, скажу, куда идти…
Домой Татьяна возвращалась поздно. Скорбно тащилась она под покровом светлой ночи, не разбирая тропинки, прямо по жнивью. Небо совсем очистилось от дыма и тумана, с него весело глядела на землю полная луна. Только лес был угрюм, ворожил неподвижными черными тенями.
Как бы продолжая слушать Наташу, Татьяна кивала на ходу, поддакивала: верно, растила все эти годы детей, в них единственных видела хорошее. Никогда раньше она не сомневалась, правильно ли делает, а вот сейчас насчет этого ясности не было; но больше всего мучила Татьяну другая неясность — утвердится ли она до утра в своем решении или раздумает.
И вдруг будто со всего широкого поля на нее подуло немыслимым в такую теплую ночь холодом; сковав ноги, живот, холод выбрал для себя самое уязвимое место — голову. Татьяна остановилась. Прижала ладони к вискам, пытаясь ими, тоже остывшими, отогреть заледеневшую голову, и только потом начала соображать, что на нее напал просто-напросто ужас. Жутко стало оттого, что Татьяна поняла: сколько бы она теперь ни думала о возможном спасении той маленькой, слабенькой жизни, которую питает своей кровью, ее воля, матери, уже была направлена против этой жизни. И что жизнь эта несмышленая, но уже наделенная наитием, приготавливает себя к беде.
В другой раз Татьяна могла бы успокоить себя, это неправда. Это ее взбудораженный ум рождает нелепицы, и, расскажи о них кому-нибудь, засмеют. Но сейчас, посреди поля, колдующего неуловимо призрачным светом и караулящей тишиной, свалившаяся на Татьяну догадка превратилась в веру.
Татьяна и раньше, правда, робко и как бы ненароком задумывалась над тем, что все мучения и страхи, одолевавшие мать, делают свои черные отметины на том малом росточке, с которым у нее такая напряженно чуткая связь.
Татьяна долго, до изнеможения долго стояла, вслушиваясь в себя. Но тот, к кому были обращены ее мысли в эти минуты, ни единым движением не выдал своего присутствия, словно желая до конца дослушать материнскую думу. Перестав растравливать его и себя раздумьями, Татьяна медленно, неслышными