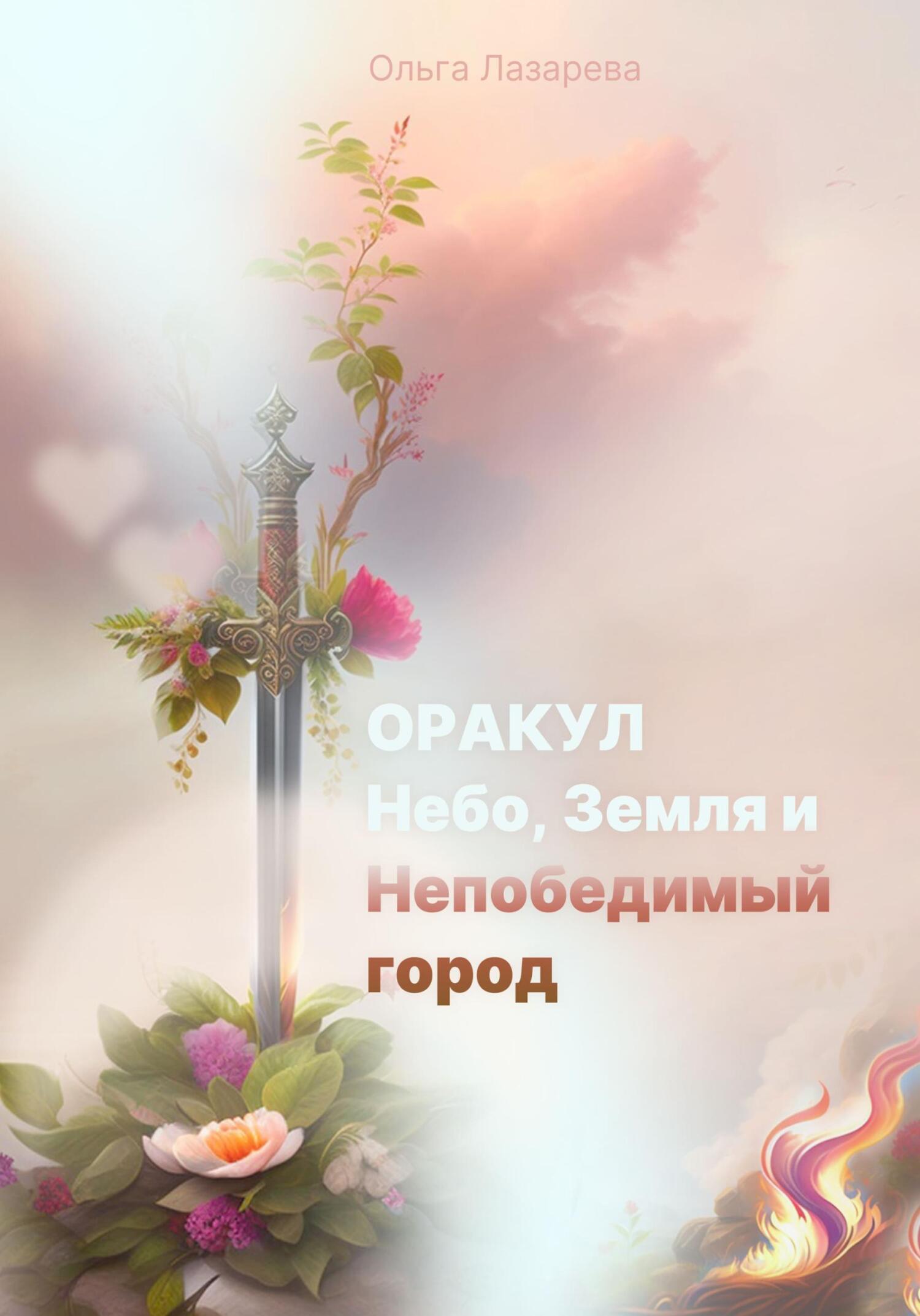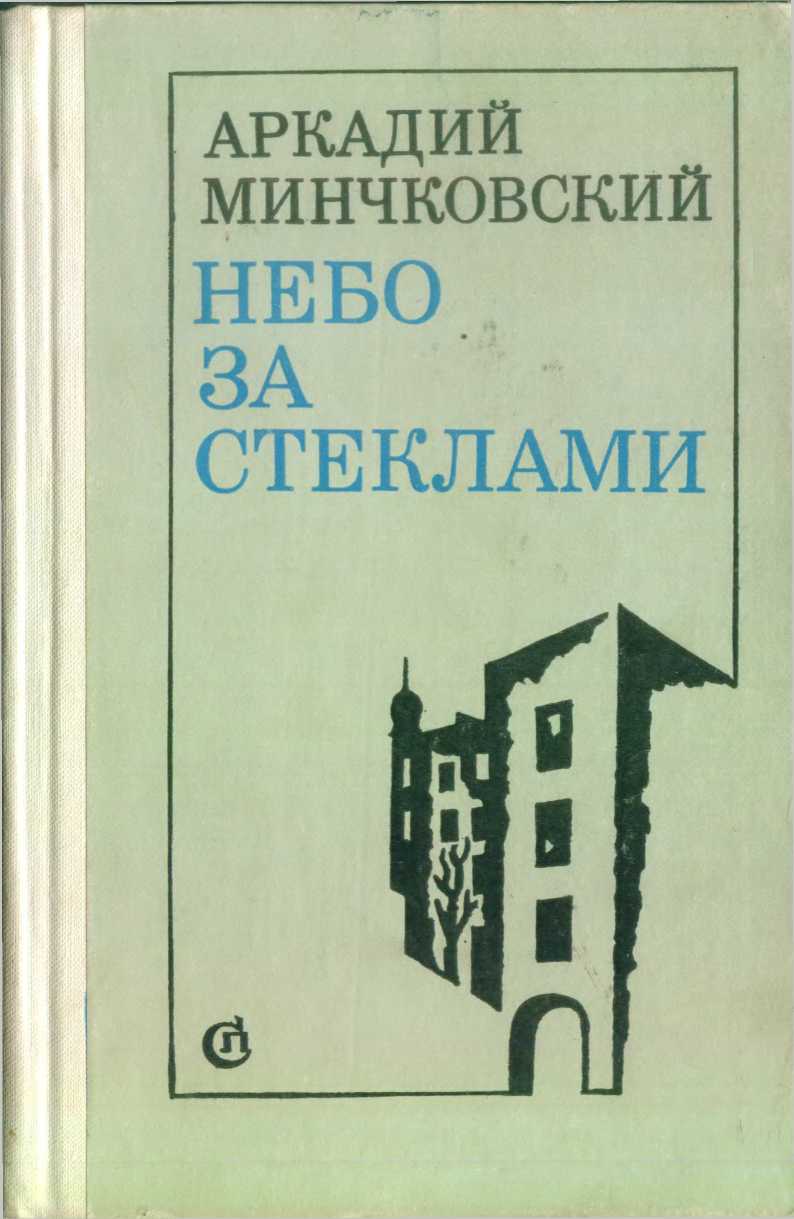человеке... Если он человек, у него найдется место и для бога. Дай человеку отпускную от бога, да человек ли он?.. Если есть у меня нечто дорогое, то это моя духовность, а что есть эта самая духовность, коли не господь наш всемогущий. Отнимите его у меня, да я убью себя!.. Клянусь крестом святым: убью... — Он охватил своей маленькой рукой грудь, ища крест, и, нащупав его, затих, глаза его пламенели — не было сомнений, что угроза убить себя не пустое слово. — А пока вы тут выясняете, мы пойдем — нам-то все ясно... Ты что затих, Фома? Пойдем, говорю...
Они ушли.
Коцебу почти торжествовал.
— Видели? — указал он на дверь, в которую вышел отец Федор. — Верующий человек!.. Возьмите в толк: верующий... и как это красиво! — Он взглянул на отца Петра: — Что же ты молчишь? Точно твоя хата с краю, точно твое дело сторона?
— А что мне сказать?
— Как — что сказать? Как? Да с твоей головушкой светлой у тебя архиреева дорога... Без пяти минут... владыка!..
Отец Петр улыбнулся, не без печали:
— «Владыкой мира будет труд!..»
Михаил не мог не подумать: в самом деле, почему младший Разуневский ушел в тень? И как понимать это его молчание? И как оно соотносится с самой личностью отца Петра? И как понимать нынешнюю миссию Коцебу? И не отсрочилась ли поездка за Дунай? И каково будет среброглавой церковке, что ждет не дождется приезда отца Петра?
Но чело отца Петра, казалось, ничем не омрачено. Кравцов видел, как отец Петр запустил пальцы в свои длинные волосы, взъерошил их. Минуту он застыл в этой позе — волосы закрыли его лицо, пытался сосредоточиться.
— Хочешь, дядюшка, я тебе задам вопрос, который однажды поставил перед Михаилом Ивановичем?
— Задавай...
— Вот он, этот вопрос: «Свободен ли я?»
— А свобода — она, как бог, внутри тебя, — произнес Коцебу. — Коли ты ощутил ее в себе, значит, свободен, коли не признал в душе своей, ничто тебе не поможет...
Но Петр уже не слушал Коцебу: видно, однажды ему это уже говорили.
— Анна, твоя подача, пошли? — обратил он взгляд к окну веранды, за которым была волейбольная площадка.
— Пошли! — подхватила она и, встретившись взглядом с Кравцовым, будто подмигнула ему. — И вы, Михаил Иванович, и вы!..
Но Михаил покинул веранду, когда они уже скрылись во тьме сада. Кравцов готовился услышать, как гудит, ухая, мяч и раздается знакомое: «Мазила!», а услышал иные звуки — стон сгибаемого дерева и шепот, казалось, сама пыльная тьма сада сеет горячий шепот.
— У нас не так все трудно, как может показаться, — точно заклинал он. — У меня дружок отыскался в Карелии, не дружок, а клад. Он в том лесном царстве — монарх абсолютный. Мне только слово ему молвить, и такую сторожку оборудует — загляденье. Переждем грозу в том бору дремучем до весны, а там можно и на свет глянуть. Сторожка — это не так плохо... Печку русскую сообразим, завезем муки и масла подсолнечного — будем печь пышки!.. Кругом вон сколько леса — по нашу душу тепла хватит! Если не крыша, то присказка спасет: «С милой — рай и в шалаше».
Он говорил и вздыхал блаженно, быть может, обвивал ее плечи длинными руками, быть может, целовал Анну, а она смеялась, односложно повторяя: «Да, да, да», — она со всем была согласна...
— Но только чур... — произнес он и замер. — Прежде чем завьемся в карельское приволье, покажи мне Зеленчук!..
Видно, просьба эта была для нее неожиданна, и она смешалась.
— Нет, нет, покажи, ты даже не можешь понять, как это для меня важно, — настаивал он, забыв обо всем, — он точно не делал тайны из этой своей просьбы, его голос стал слышным. — Ты не бойся: я явлюсь и исчезну незримо...
Когда он вновь появился на садовой тропе, он точно посветлел.
— Не иначе, партия осталась за отцом Петром, — произнес Михаил.
— За мной, за мной, — подтвердил он и, встретившись взглядом с Коцебу, который вышел на голос, возрадовался. — Анна обещала показать мне зеленчукские зеркала...
— Хочешь рассмотреть бога? — спросил Коцебу, помрачнев.
— А ты думал что?.. Хочу!..
В эту же ночь гости разъехались, да и Разуневский не остался дома, — кажется, его повлекло к зеленчукским зеркалам. Внешне это выглядело пристойно вполне: должен же кто-нибудь проводить Анну...
Он вернулся дня через три — вид у него был необычный: не иначе, в этом своем костюме неброских темно-коричневых тонов он убегал из Загорска в Москву — соблазн самовольной отлучки казался едва ли не доблестью.
— Пошли за Кубань!.. — предложил он Михаилу. — Не хотите? — он точно взорвался. — Простите, Михаил Иванович, но вы вроде моего Япета: едва я в воду, он начинает выть... — Он заглянул Михаилу в глаза. — Нет, я вас не приглашаю, я сам...
— Да я и не смогу отозваться на ваше приглашение — мне завтра вставать с зарей... — мягко парировал Кравцов.
— Не приглашаю... — повторил он. — Без обиды, не приглашаю, хотя проводить вы меня можете — до моста...
Они пошли. Река продолжала прибывать — никогда деревянный мост не гудел под напором сильной реки, как в этот вечер. Казалось, опоры едва удерживают мост — сильное тело его вздрагивало. Там, где встали эти опоры, река точно вскипала, выбрасывая гриву, грива была пепельно-седой, стелющейся по воде: десять опор — десять седогривых коней.
— Вы видели когда-нибудь человека, который бы сказал: «Я счастлив»? — вдруг остановил он Кравцова, дав понять, что дальше намерен идти один. — Видели?
— Даже самый счастливый не скажет: «Я счастлив» — счастье безбрежно... — ответил Михаил, поколебавшись: Разуневский не на шутку смутил его.
— Если оно зримо, это счастье, оно не может быть безбрежным, — произнес он не без обиды и спросил неожиданно: — Вы мою Анну знали прежде?
— Анну? — не скрыл изумления Михаил. — Откуда мне знать ее?..
— Не удивляйтесь