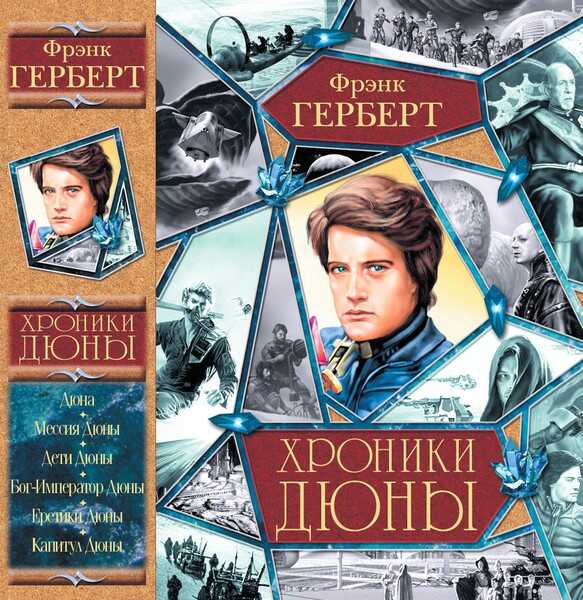София, ты понимаешь, что жана’ата почти уничтожены? Конечно, ты хотела не этого…
– Это они сами рассказали тебе? – спросила она, возмущенно фыркнув. – И ты поверил им.
– Черт побери, София, зачем такой тон?! Когда я вижу голодного, то знаю, что ему нужно…
– Ну и что, если они голодают? – отрезала она. – Что мне с того, что каннибалы голодают?
– Ради Христа, София, они не каннибалы!
– И каким еще словом ты хочешь назвать их? – спросила она. – Если они едят руна…
– София, послушай меня…
– Нет, это ты послушай меня, Сандос, – прошипела она. – Почти тридцать лет мы-но-не-ты сражались с врагом, вся культура которого стала чистейшим воплощением самой характерной формы зла – желания лишить человеческого достоинства других людей, превратить их в свою собственность; в своей жизни руна обслуживали джанада – они были рабами, подручными, сексуальными игрушками. А в смерти становились сырьем – мясом, шкурами, костями. Сперва поработай, потом на бойню! Но руна – больше чем мясо, Сандос. Они люди, заслужившие свою свободу и вырвавшие ее у тех, кто поколение за поколением порабощал их… поколение за поколением, понимаешь? Бог захотел, чтобы они освободились. Я помогла им добиться свободы и ни о чем не жалею. Мы воздали жана’ата по справедливости. Они пожали в точности то, что посеяли.
– Так это смерть всех жана’ата угодна Богу? – воскликнул Эмилио. – И Он хочет, чтобы руна превратили планету в бакалейную лавку? Неужели Богу нужна планета, где никто не поет, где все похожи друг на друга? София, здесь более нет места принципу «око за око»…
Звук был подобен выстрелу из ружья, глухому и плоскому, и он ощутил, как на лице его проступает точный и жгучий отпечаток ее ладони.
– Как ты посмел? – прошептала она. – Как ты посмел оставить меня здесь, вернуться сюда – после всего прошедшего времени – и начать судить меня!
Сандос стоял отвернувшись, ожидая, пока утихнет ощущение, стараясь сдержать слезы, пытаясь ощутить, каково ей было прожить целых сорок лет в одиночестве и без поддержки, без Джона или Джины, без Винса Джулиани или Эдварда Бера. И всех остальных, кто так или иначе помогал ему.
– Прости, – сказал он наконец. – Прости! Я не знаю, что происходило здесь, и не претендую на то, чтобы понимать то, что тебе пришлось пережить…
– Спасибо тебе. Приятно слышать…
– Только вот что, София, я знаю, что такое быть вещью, – проговорил он, оборвав ее. – Я знаю, каково это, когда тебя стирают из бытия. Я знаю, как себя чувствуешь под ложными обвинениями, Боже, помоги мне! И я знаю свою вину… – Он умолк и отвернулся, но потом посмотрел на нее. – София, я ел мясо руна по той же самой причине, по которой это делали джанада: потому что был голоден и хотел жить. И я убивал… я убил Аскаму, София. Я не хотел убить именно ее, но я хотел убить, я хотел, чтобы кто-то умер и меня тем или иным образом освободили от этой жизни. Так что теперь ты видишь, – без малейшей радости проговорил он, – я в последнюю очередь имею право кого-то судить! И я согласен с тобой в том, что жана’ата, с которыми ты воевала, получили по делам своим! Но, София… ты не можешь позволить руна перебить их всех до одного! Они заплатили за свои грехи…
– Заплатили за свои грехи, говоришь?! – Не веря ушам своим, она поднялась на ноги, оставила кресло и сделала несколько шагов, согбенная дугой и хромая. – Что же, они покаялись перед тобой, отче? И ты отпустил им грехи, потому что они попросили тебя? – спросила она с презрением на лице. – Знаешь ли, некоторые грехи невозможно отпустить! Некоторые преступления непростительны…
– Ты думаешь, что я этого не знаю? – выкрикнул он, ощущая в своей груди подобный гнев. – Мне больше никто не исповедуется! Я сложил с себя сан, София. И я явился сюда вовсе не для того, чтобы судить тебя. И даже не для того, чтобы спасать! Я здесь потому, что люди Карло Джулиани избили меня до потери сознания и похитили. Добрую часть полета сюда я провел под наркотиками и хочу сейчас только одного: оказаться дома и отправиться на поиски женщины, на которой едва не женился семнадцать лет назад, если она только жива еще…
Она смотрела ему в глаза, но на сей раз Эмилио выдержал ее взгляд.
– Ты сказала, что знаешь, как обходились со мной в Галатне, София, но не знаешь худшего: я оставил священство, потому что не могу простить то, что случилось со мной в этом дворце. Я не способен простить Супаари за это вот, – проговорил он, показывая ей обе своих руки. – И я не способен простить Хлавина Китхери и думаю, что никогда не прощу. Они научили меня ненависти, София. Правда, смешно? Услышав песни Китхери, мы прилетели сюда, рискуя всем, но готовые возлюбить всякого встречного и научиться от него! А вот когда Хлавин Китхери встретил одного из нас… Он посмотрел на меня и подумал всего лишь… – Задохнувшись от горечи, Эмилио умолк, отшатнулся от нее, но тут же повернулся обратно, содрогаясь всем телом, посмотрел в смущенные глаза и промолвил негромким, пропитанным ненавистью голосом: – Он посмотрел на меня и подумал: «Отлично, такого, как этот, я еще не трахал».
– Это было и кончилось, – побелев, отрезала она.
Однако Эмилио знал, что не кончилось, даже для нее самой, даже по прошествии всех этих лет.
– И тогда ты берешься за работу, – сказала она. – Концентрируешься на своем деле…
– Да, – немедленно и с охотой отозвался Эмилио. – И превращаешь одиночество в добродетель, которую называешь самодостаточностью и уверенностью в себе, так? Уверяешь себя в том, что тебе ничего не нужно и что никто более на земле тебя не интересует и ты никого более не допустишь в свою жизнь…
– Замуровываешь свое прошлое!
– Думаешь, я не пытался? – воскликнул он. – София, я до сих пор таскаю в эту стену камень за камнем, однако ничто более не удерживает их вместе! Даже гнев. Даже ненависть. Я сыт ею по горло, София. Я устал от нее. Она наскучила мне!
Стена дождя находилась всего в нескольких минутах от них, страшные молнии били совсем рядом, однако он не обращал внимания.
– Я ненавидел Супаари ВаГайжура, Хлавина Китхери и шестнадцать его приятелей, но… похоже, я теперь не способен возненавидеть все это вместе, – прошептал он, бессильно роняя руки. – София, во мне, наверно, уцелел только один островок прежней целостности и чистоты. И, как бы я ни ненавидел отцов, я не способен возненавидеть