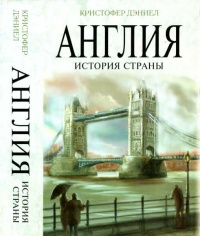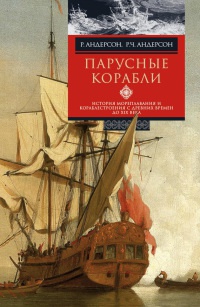Таким образом, страсть к охоте косвенно весьма способствовала улучшению нашей цивилизации. Но, к несчастью, она была связана с браконьерством и всевозможными неприятностями между соседями. Законодательство, касающееся дичи, было кастовым и эгоистичным не только в отношении бедных, но и в отношении каждого, кто не принадлежал к аристократическому меньшинству. Покупать или продавать кому-нибудь дичь не разрешалось, в результате чего цены, устанавливаемые профессиональными браконьерами, резко возрастали; также не разрешалось никому, кто не был сквайром или старшим сыном сквайра, убивать дичь даже в том случае, если он был приглашен на охоту владельцем этих мест. Этот обременительный закон мог быть, правда, обойден при помощи процесса, известного под названием «замещения» [59]. Он был уничтожен вигским законодательством в 1831 году, несмотря на оппозицию герцога Веллингтона, который был убежден, что эти чрезвычайные ограничения были единственным средством сохранить дичь в сельских местностях, так же как он полагал, что «гнилые местечки» были единственным средством для сохранения прежнего значения джентльменов в политике. В обоих случаях последующие события показали, что герцог был слишком пессимистичен.
По новому закону 1816 года коттер, который ловил зайца или кролика во владениях джентльмена, чтобы спасти от голода себя и свою семью, мог быть сослан на семь лет за океан, если его захватили ночью с силками. Конечно, подобной симпатии не могут вызвать у нас банды (иногда группами около 20 человек) вооруженных ружьями хулиганов из городов, проникавшие в заповедники и вступавшие в настоящую битву с джентльменами и лесничими, которые выходили им навстречу. Война с браконьерством стала весьма отвратительным занятием.
Одной из худших ее сторон была охрана фазаньих заповедников при помощи ловушек и западней, спрятанных в чаще, которые калечили и убивали невинных путников так же часто, как и браконьеров, для которых предназначались эти машины смерти. Английские судьи считали этот позорный обычай законным до тех пор, пока парламент не запретил его в 1827 году. Дух гуманности стал оказывать весьма сильное влияние даже на ревностных приверженцев сохранения дичи, в борьбе с которыми он одержал целый ряд побед, нашедших свое выражение в законах об охоте. По мере того как эти законы становились мягче и исполнялись более справедливо, сохранение дичи стало менее трудным, так же как и менее позорным.
Действительно, с каждым годом XIX века ослабевал антиякобинский дух, гуманность овладевала одной областью жизни за другой, смягчая грубый, а часто буквально зверский характер прошлого и воспитывая вместо этого радостное милосердие сердца, иногда впадающее в сентиментальность. Пророком этой новой фазы в настроениях масс, сильных и слабых ее сторон, неизбежно должен был стать Чарльз Диккенс, чувствительность и мужество которого были воспитаны суровой школой лондонских улиц двадцатых годов.
В течение этого десятилетия «кровавое законодательство» о смертных казнях за бесчисленные преступления было отменено под давлением присяжных, которые часто отказывались признавать человека виновным в воровстве, если он должен был быть за это повешен. Движение за уничтожение рабства негров возбудило пылкий народный энтузиазм, иногда чрезмерный в его чувствах к «темным братьям».
Эти перемены в чувствах были удивительным улучшением всех прошлых веков. По мере того как шли годы XVIII века, гуманность все больше и больше проникала во все сферы жизни, особенно в обращение с детьми. Прогресс в гуманности в значительно большей степени, чем восхваляемый прогресс механизации, был тем явлением, которым XIX век имел основание гордиться, так как в дурных руках машины могут уничтожить человечество.
Глава XVII Между двумя биллями о реформе ( 1832 – 1867 )
Промежуток времени между великим биллем о реформе 1832 года и концом XIX века может быть условно назван викторианской эпохой, но характеризуется он такими постоянными и быстрыми переменами в сфере экономической и культурной жизни, что мы не должны представлять себе эти семьдесят лет как что-то однородное только потому, что шестьдесят из них приходятся на правление королевы Виктории (1837-1901), Если и можно найти что-либо действительно общее для всей Викторианской эпохи в Англии, то его следует приписать двум главным обстоятельствам: первое из них заключалось в том, что в этот период не было ни значительной войны, ни боязни катастрофы извне; и второе – что в течение всего периода существовал интерес к религиозным вопросам и происходило быстрое развитие научной мысли и самодисциплинирования человеческой личности, явившегося результатом влияния пуританизма. Это развитие научной мысли оказало свое влияние даже на «агностиков», которые в конце периода по мере возрастания успеха дарвинизма и научных открытий оспаривали не этику, а догмы христианства. Кроме того, движение «высокоцерковников», порожденное евангелистами, увидело новый свет, унаследовало эту черту пуританизма. У. Гладстон, англо-католик такого типа, обращался к сердцам своих нонконформистских собратьев, потому что и он сам, и его слушатели рассматривали всю жизнь (включая внутреннюю и внешнюю политику) как сферу влияния своих личных религиозных убеждений.
В течение последних семидесяти лет XIX века государство быстро приобретало новые социальные функции, требуемые новыми промышленными условиями на перенаселенном острове; но действительная сила и счастье викторианской эпохи заключается не столько в этом обстоятельстве, хотя само по себе оно и было важно, сколько в самодисциплине и уверенности в себе рядового англичанина, вызванных, конечно, многими причинами, но в основном пуританскими традициями, которым продлили жизнь уэслианское и евангелическое движение. «Самопомощь» была любимым девизом влиятельных и типичных представителей всех классов. В XX же столетии самодисциплина и уверенность в себе являются менее заметными, и квазирелигиозное требование социального спасения через действия государства заняло место более старых и более личных систем религиозного мировоззрения. Наука подорвала старые формы религиозной веры, но даже теперь силу и слабость Англии невозможно понять без некоторого знания ее религиозной истории. В течение двадцати лет, прошедших между двумя мировыми войнами (1919-1939), эмансипированные потомки истово верующих викторианцев еще ожидали, что нравственные идеи, хотя уже меньше влиявшие наличное поведение, должны направлять нашу внешнюю политику и нашу политику разоружения, и не обращали должного внимания на действительное положение вещей у других европейских наций, которые никогда не были пуританскими и никогда не считали, что нравственность имеет что-нибудь общее с политикой.
В период войн с Наполеоном и в первое десятилетие последовавшего за ними мира евангелическое духовенство стало составной частью англиканской церкви, в которую оно внесло свое упорство, энергию и энтузиазм. Делом всей жизни Чарльза Симеона (1759-1836), члена Кингс-колледжа и священника церкви св. Троицы в Кембридже, было примирение прозелитского пыла евангелизма с дисциплиной церкви. Если бы не Симеон, евангелическое духовенство продолжало бы склоняться к диссидентству как более легкому способу осуществления своей миссии странствующих проповедников по образцу Уэсли, вторгаясь в пределы действия приходской системы и не обращая внимания на установленный там церковный порядок. Если бы это движение продолжалось и в новом столетии, англиканская церковь могла бы, может быть, погибнуть во время бури реформ, разразившейся в тридцатых годах. Но симеонитское духовенство, хотя и дружественное к диссидентам, эффективно защищало церковь, для возрождения влияния которой на души англичан оно так много сделало.