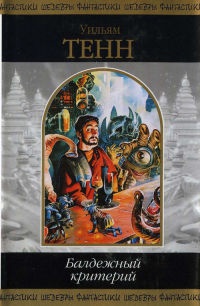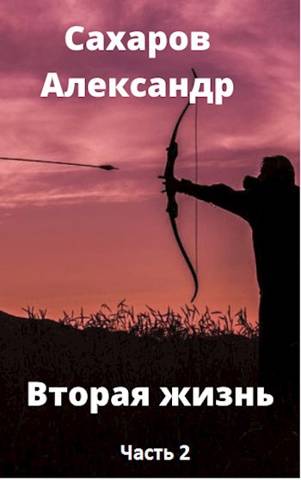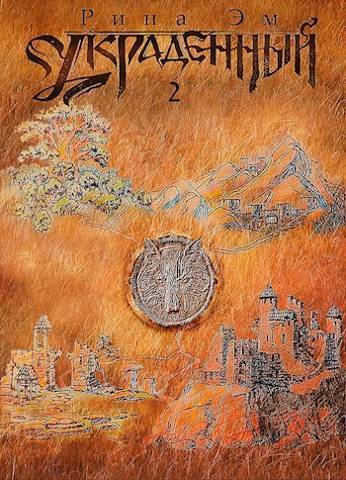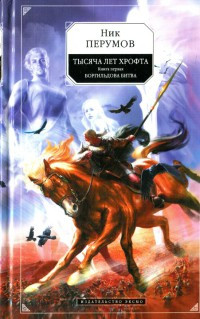хибаре не было, и свет проникал внутрь, а воздух выходил наружу через щели между бревнами, откуда выпал мох. В хижине горели светильник с китовым жиром и очаг — для тепла. Неровный огонь отбрасывал жуткие тени на двуспальную лежанку, стол и стул, скудные принадлежности для шитья и приготовления еды, вешалки для одежды прицепленные к шестам под потолком вяленую рыбу и колбасы, и болтавшиеся на поперечных перекладинах связки сухарей. В туманные ночи, как сегодня дым от очага почти не выходил через отверстие в крыше.
Водяные, выходя на берег, опорожняли легкие от воды одним сильным выдохом, и легкие Тауно всегда после этого некоторое время горели. Воздух казался ему чересчур разреженным и сухим, а звуки в нем более глухими. Но хуже всего была вонь в хижине — ему приходилось постоянно кашлять: прочищать легкие, чтобы разговаривать.
Ингеборг молча обняла его. Это была невысокая, коренастая женщина, веснущатая и курносая, с крупным нежным ртом. Глаза и волосы у нее были темные, голос высокий, но, приятный.
Тауно не нравился исходящий от ее платья запах застарелого пота, равно как и любой, свойственный людям характерный запах, но под ним он улавливал солнечный аромат женщины. Возможно, бывали на свете даже принцессы, к которым относились с меньшим благоволением, чем к Ингеборг-Треске.
— Я надеялась... — выдохнула она. — Я так надеялась...
Он высвободился из ее объятий, шагнул назад и приподнял трезубец, не сводя с нее глаз.
— Где моя сестра? — рявкнул он.
— А, сестра... У нее все хорошо, Тауно. Никто не причинит ей вреда. Никто не посмеет. — Ингеборг отвела его подальше от двери. — Иди, бедняжка, садись, поешь супа и успокойся.
— Сперва ее лишили всего, что было ее жизнью...
Тауно пришлось остановиться и откашляться. Ингеборг воспользовалась паузой.
— Христиане не позволили бы ей жить среди них не крещеной. Ты не можешь их винить, Тауно, даже священников. За всем этим стоит более высокая сила. — Она пожала плечами и привычно улыбнулась уголками рта. — Ценой своего прошлого, ценой старости, уродства и смерти меньше, чем через сто лет, она приобрела вечную жизнь в раю. Ты можешь прожить гораздо дольше, но когда тебя настигнет смерть, твоя жизнь угаснет навсегда, как пламя сгоревшей свечи. Я же переживу свое тело — только, наверно, в аду. Так кто из нас троих самый счастливый?
Немного успокоившись, но все еще мрачный, Тауно прислонил трезубец к стене и сел на лежанку. Под ним зашуршал соломенный тюфяк. Горящий торф выбрасывал желтые и голубые огоньки, и дым его мог показаться приятным, не будь он так густ. В углах и под крышей затаились тени, бесформенные сгустки мрака плясали на бревенчатых стенах. Тауно, даже обнаженного, не беспокоили холод и сырость, но Ингеборг дрожала, стоя у двери.
Он взглянул на нее сквозь полумрак и дым.
— Я мало что знаю, — сказал он. — В деревушке есть парень, из которого надеются сделать священника. Так он сказал моей сестре Эйджан, повстречавшись с нею. — Он усмехнулся. — Она мне еще говорила, что с ним оказалось не так уж плохо заниматься любовью, жаль только, что от свежего воздуха он все время чихал. Так вот, — серьезно продолжил он, — если мир плывет именно так, нам остается лишь согласиться и не мешать ему. Однако... вчера вечером мы с Кеннином отправились на поиски Ирии — хотели убедиться, что с ней хорошо обращаются. Тьфу, сколько же грязи и дерьма на тех болотах, что вы зовете улицами! Мы обошли эти улицы, подходили к каждому дому, даже к церкви и кладбищу. Видишь ли, вот уже несколько дней, как мы не можем ее отыскать. А мы способны найти ее внутри чего угодно, будь то хижина или гроб. Наша маленькая Ирия теперь, может быть, и смертна, но тело ее до сих пор наполовину отцовское, и в тот последний вечер на берегу от нее по-прежнему пахло, как от освещенных солнцем волн. — Он стукнул кулаком по колену. — Кеннии и Эйджан разъярились и собрались выйти на берег прямо днем и острием гарпуна вырвать из людей правду. Я сказал им, что они рискуют умереть, а как может мертвый помочь Ирии? Но мне было очень трудно дожидаться заката, Ингеборг!
Она села рядом с ним, обняв одной рукой за талию, а другую положив на бедро, и прижалась щекой к его плечу.
— Знаю, — тихо произнесла она.
Тауно продолжал хмуриться.
— Ну? Так что же произошло?
— Понимаешь, ректор забрал ее с собой в город Виборг... Подожди! Никто не хотел навредить ей. Да и как они посмеют причинить вред сосуду Небесной Милости? — рассудительно произнесла Ингеборг и тут же презрительно усмехнулась. — Ты пришел в нужный дом, Тауно. Ректор привез с собой молодого писца, он побывал у меня, и я его спросила, как они собираются кормить наше чудо. Мы в Элсе не скряги, сказала я ему, но и не богачи, и теперь, когда ей уже не суждено рассказывать байки о подводной жизни, кто захочет взять к себе девочку? Ведь ее придется всему учить заново, как новорожденного младенца, да еще копить для приемной дочери приданое. Да, конечно, у нее есть какой-то выбор: стать нищенкой выйти замуж за моряка или жить, как я, — но разве это правильно для такого чуда? Нет, сказал писец, все будет иначе. Они заберут ее с собой и отдадут в монастырь Асмилды в Виборге.
— Что это такое?
Ингеборг объяснила, как смогла, и под конец добавила:
— Там Маргарет дадут новый кров и будут учить. Когда подойдет срок, она примет обет и станет жить в чистоте. Ее, конечно, начнут почитать — и так до самой смерти, которая наверняка будет иметь запах святости. Или ты не веришь, что труп святой не будет вонять, как твой или мой?
— Но это ужасно! — воскликнул ошеломленный Тауно.
— Неужто? Многие сочли бы такую судьбу необыкновенной удачей.
Он пристально посмотрел ей в глаза.
— А ты?
— Я... нет.
— Прожить взаперти до конца своих дней среди унылых стен, остриженной, в грубых одеждах, скудно питаясь, бормоча под нос о Боге и навсегда отвергнув то, что Бог же вложил в ее тело... никогда не знать любви, детей, дома и семьи, не смея даже побродить под цветущими весной яблонями...
— Таков путь к вечному блаженству, Тауно.
— Гм.