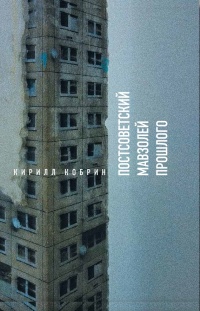Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 99
В-третьих, помимо народа и экономики (и вместе с ними) эти особенности российского понимания «государства» и власти радикально сократили степень приверженности россиян рационализму, серьезно помогая восприятию любых масштабных доктрин и концепций. Именно воображаемый характер государства стал самым важным основанием для расположенности России к доктринальным концепциям, к ее фактической зависимости от них и от утверждаемых ими иллюзорных целей. Не понимая истинного места и природы «государства», Россия стала естественным полигоном для проверки как консервативных, так и ультрареволюционных идеологий, призывавших к перестройке страны и общества, региона и всего мира на тот или иной лад. Несмотря на богатую историю, россияне научились намного больше ценить не само материальное историческое наследие (по числу разрушенных нами самими архитектурных памятников, уничтоженных произведений искусства, книг и документов нам нет равных в мире), а скорее некие абстрактные — и часто сомнительные — «уроки» истории, а то и подменяющие саму историю идеологические схемы. Масштаб индоктринации в России превосходит, на мой взгляд, любые имеющиеся в мире аналоги (что я рассмотрю подробно в пятой главе), а мифологизация становится важнейшим элементом контроля над обществом — тогда как в большинстве современных стран периоды идеологического помешательства выступали не более чем кратковременным отклонением от доминирующих трендов, которые выправлялись быстро и жестко.
Российская «озабоченность» интересами государства проявилась еще в двух особенностях страны, которые во многом определили ее международное позиционирование.
С одной стороны, государство должно было иметь определенные физические измерители своей мощи: таковыми прежде всего являлись территория, ресурсы и люди. При этом сакральная природа «государства» предполагала (как это ни странно) акцент на потенциальные, а не на актуальные блага. Богатством считались поля и недра, пушнина и золото, нефть и газ — но вовсе не имущество граждан, их дома и сбережения (а о самих людях я и не говорю). Фактически то, что признавалось в той или иной мере частной собственностью и хоть как-то охранялось законами и правилами, переставало интересовать власти: для них наиболее важным было то, что они могли присвоить без сопротивления (а лучше даже без особо деятельного участия) большинства подданных. Именно это определило «территориальную» политику и «ресурсную» экономику России. До поры до времени, как было показано выше, пространственная экспансия была вовсе не только российским трендом — но проблема заключалась в том, что в российском случае такая экспансия осуществлялась в направлении так называемого хартленда — не имевших выхода к судоходным морям районов Сибири, Центральной Азии и Севера. По «экспертному», как бы сейчас сказали, мнению известного геополитика Х. Макиндера, контроль над этими районами обеспечивал доминирование в Евразии (Мировом Острове), а последнее — «командование миром»[87]. Данная точка зрения, сформулированная более 100 лет назад, идеально укладывалась в систему взглядов российских правителей, сформировавшихся со времен борьбы с Ордой; некритично воспринятая, она была быстро возведена в абсолют и доминирует в наших «геополитических» представлениях и сегодня (как отмечает А. Дугин, «именно вектор континентальной, а затем и глобальной экспансии, осуществляемый от лица Heartland’a, является “пространственным смыслом” русской истории»[88]). В результате Россия погналась за территориями, владение которыми было во многом бессмысленным: уже в первой половине ХХ века мировая экономика стала принимать все более ярко выраженный «океанический», а не «континентальный», характер, а к началу нового тысячелетия 68 % глобального ВВП стало производиться на узкой полоске суши, удаленной от морских побережий менее чем на сто миль[89]. Оба хартленда (Х. Макиндер предлагал «рассматривать внутреннюю часть Африки как второй Heartland», отмечая, что «несмотря на разницу широт, у этих двух Heartland’ов существуют поразительные сходства (курсив мой. — В. И.)»[90]) оказались в современной ситуации не центрами цивилизационного притяжения, а регионами самой безнадежной нищеты и отсталости, поскольку, я повторю, экономика сместилась к берегам, а важнейшими активами стали доступ к побережьям и мощные торговые флоты. Последние, замечу, ни в одной развитой стране не контролируются (в отличие, скажем, от железных дорог) правительством, и, следовательно, сдвиг от континентальной экономики к морской стал в то же время и сдвигом от огосударствленного хозяйства к частному — и то и другое Россия игнорировала и игнорирует по сей день (достаточно отметить, что очередной ее геополитический проект ориентирован на цели, которые можно было признать достойными в XIX столетии, но никак не в современном мире, — на интеграцию России и тех бывших советских республик, которые не имеют выхода к морям в Европе [Белоруссия], на Кавказе [Армения] и в Средней Азии [Казахстан, Таджикистан, Киргизия], в то время как страны, имеющие такой выход, стремятся держаться от России возможно дальше[91]). То же самое можно сказать и о ресурсах: Россия все больше переносит акцент на ресурсную экономику; ее лидеры позиционируют страну как поставщика нефти и газа, постоянно наращивая долю этих товаров в общем экспорте (с 36,9 % в 1989 году до 42,8 % в 1998-м, 57,7 % в 2004-м и 66,3 % в 2014-м[92]); международное сотрудничество и соперничество все чаще рассматривается через призму развития «экономики трубы» и поставок энергоносителей. В этом нет ничего удивительного, так как «государство» относится как к своей собственности прежде всего к территориям и природным богатствам, тогда как нажитое гражданами, их интеллектуальный капитал и их инициативу по традиции считает обузой. Поэтому место, которое занимает Российская Федерация в международном разделении труда, сегодня не должно никого удивлять — оно выбрано ее элитой вполне осознанно, на основании пренебрежения современностью и приверженности тем «традиционным ценностям», которые она столь чтит.
С другой стороны, величие «государства» в России определяется прежде всего не умением использовать к своей пользе противоречия и взаимозависимость других держав, а скорее способностью либо реализовывать политику изоляционизма, либо создавать такие альянсы, в числе членов которых невозможно найти себе равного. На протяжении многих столетий Россия раз за разом доказывала самой себе и остальному миру, что не умеет формировать устойчивых коалиций, участники которых были бы объединены общими ценностями (подробнее я остановлюсь на этом в седьмой главе). Затрачивая огромные усилия и неся значительные жертвы для помощи союзникам, она в итоге оказывалась одна и нередко вскоре сталкивалась со своими недавними друзьями. Причиной тому было ее стремление всегда занимать главенствующую роль в любом политическом объединении — такую, которая позволяла ей навязывать свою волю союзникам и партнерам. Истории не известен ни один случай (за исключением, быть может, Второй мировой войны, когда страна подвергалась самой серьезной опасности), в котором Россия состояла в геополитических альянсах, в которых либо она больше зависела от своих союзников, нежели те от нее, либо зависимость была в полной мере взаимной. В основе такой политики лежало опять-таки извращенное понимание «государства» как чего-то, что не знает пределов для утверждения собственной воли. Суверенитет в России исторически трактовался и сегодня трактуется как свобода от каких бы то ни было обязательств и ограничений. А. Кокошин, например, прямо указывает, что страны, на территории которых находятся военные базы других держав (а иногда он говорит также о странах, которые не имеют ядерного оружия), не обладают тем «реальным суверенитетом», к которому стремится Россия[93]. Президент В. Путин идет еще дальше и, отмечая, что любой союз предполагает умаление суверенитета государства (большинство западных политологов считают, правда, что вступление в союзы является формой выражения такового[94]), заявляет: «Россия, слава Богу, не входит ни в какие альянсы, и это тоже в значительной мере залог нашего суверенитета»[95]. Возможно, это заявление удивит многих международников — но оно идеально отражает мечты и стремления российской власти, которые остаются неизменными многие сотни лет. Как и стремление к умножению территории, поразительно несовременное понимание суверенитета отличает Россию от большинства развитых и успешных регионов — особенно от Европы, практически все страны которой объединились в Европейский союз, обеспечивший континенту продолжительный мир и невиданное экономическое благосостояние. Проблема намного более масштабна, чем то, что Россия теряет много возможностей, будучи не в состоянии выстроить отношения с ЕС. Как бы Российская Федерация ни пыталась представить себя глобальной державой, она остается достаточно слабой экономически и вряд ли привлекательной с точки зрения ее социальной и политической модели. При этом она занята «консолидацией» мало кому нужного постсоветского пространства, предпочитая задаваться вопросом «Кто тут с нами, а кто против нас?» вместо того, чтобы спросить себя «А с кем мы?», что представляется сегодня намного более рациональным и перспективным. Однако такой вопрос не приходит и не придет в голову хозяевам Кремля, в которых столетиями стремление к «реальному суверенитету» выступало компенсаторным чувством, порожденным подсознательным пониманием собственной окраинности и несовременности.
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 99