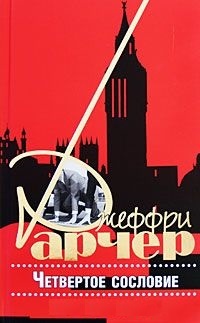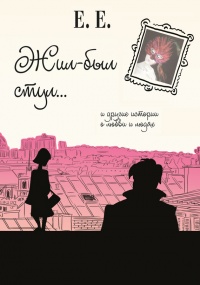«Их истории так реальны, — думал он. — Да они скорее умрут, чем откажутся от собственных слов. Я уверен. Они скорее отправятся на виселицу, чем признаются во лжи».
«Вы, вы, воплощение благородства! Вы, пришедшие сказать правду, рискнув всем», — сказал тогда прокурор.
При этом воспоминании Франк фыркнул и покачал головой. Чем это они рисковали, скажите на милость, чем они могли рисковать, если ложь обеспечила им всеобщую симпатию и печальную известность?
— В субботу, значит, подошел ко мне, а мы как раз на втором этаже, уходить, короче, собираемся. Он и говорит мне остаться. Ну, подружки мои спустились, а я думаю, может, он хочет сказать, что наконец-то поставит меня ближе к началу конвейера, я ж там работаю уже шестнадцатый месяц, а мне обещали, что через двенадцать месяцев, если я буду справляться, меня передвинут. А шестнадцатый месяц пошел, и ничего. Вот уж не знаю почему, справляюсь-то я куда как хорошо. Ну я и подумала: сейчас скажет, что меня наконец передвинут.
Тут она опустила голову.
И тогда судья, таким мягким голосом, какого Франк за ним и не подозревал, будто все робкие попытки противостоять жестокостям этого мира воплотились в его словах, сказал:
— Прошу вас, продолжайте. — Потом вздохнул и повторил: — Прошу вас.
И она подняла голову. Смело, молча, благородно. Да кого бы не поразило такое мужество, подумал он, кроме человека, которого ее ложь отправляла на смерть?
«Я что, схожу с ума? — подумал Франк, вспоминая то судебное заседание. — Да нет же. Нет. Так лучше. Мне лучше. Но когда я сидел там…» При этой мысли он снова оказывался в зале суда. Словно в горячечном сне. Он снова сидел в этом зале, окруженный врагами, чувствуя, как собственный разум разрушает его.
«Не то чтобы они лгали, — думал он, — и не то чтобы меня обязательно казнили, но ведь никто никогда не узнает. Никто никогда не узнает. Никто никогда не узнает, — думал он, когда они аплодировали ей. Когда она спустилась и пошла по проходу, а судья требовал тишины, и судебный пристав требовал тишины, но все и каждый в зале суда знали, что они это делают лишь ради формы. — Они все повязаны негласным правилом, — думал он. — Даже в этом незатейливом ритуале, когда каждый знает, что другой знает, и каждый счастлив сыграть отведенную ему роль. Счастлив от такого единодушия.
Бедная ты, бедная похотливая мразь», — думал он.
В ушах стоял грохот голосов, которыми взорвался тогда судебный зал. Затем тембр его сменился — зрители провожали глазами Элис, девушку с фабрики, которая выходила из зала суда. Потом ее приветствовала толпа в коридоре, потом — толпа на улице. Он живо представил ее лицо, маску сдерживаемых чувств, смирения, безупречно разыгранную скромность, честную простоту, понимание, что она, бедная фабричная работница, недостойна таких похвал, но принимает их, ибо восхваляют не ее, а всех женщин Юга в ее лице.
«Да, в таком качестве, — говорила она своей походкой, своим опущенным долу взглядом, всем своим видом, — да, в таком качестве я могу их принять».
А он не мог встать со своего места и убить ее — вот в чем была главная несправедливость, — убить ту, которая убивала его. Приблизила его смерть своим лжесвидетельством. Он не мог спрыгнуть со скамьи подсудимых, в проход между рядами, проскочить под руками шерифов, врезаться в толпу, кипевшую в зале и коридорах, и пробраться сквозь нее. Может, у него получилось бы, стань он юрким, как мышь, таким быстрым, что они не успели бы ничего заметить, — и дальше, по коридорам, по лестницам, на улицу, где он бы увидел бы эту шлюху, окруженную… Но минутку, минутку, тогда он был бы свободен! Он развернулся бы в другую сторону и помчался к пристаням, на какое-нибудь судно, или, наоборот, бежал бы из города…
Жизнь беглого раба манила его. Он забирался бы ночевать в амбары, ел бы… интересно, а что бы он ел? Впрочем, это предстояло узнать со временем. Постепенно он бы разобрался, как жить такой жизнью, в которой времени предостаточно. Он ведь был таким маленьким, и быстрым, и легким, и все эти качества отныне будут играть ему на руку…
Ему не нужно многого. На самом-то деле ему нужно совсем мало. В этом заключалась его тайна. В этом была его сила.
ДОЖИДАЯСЬ АДВОКАТА
И еще, конечно, был страх того, что скажут «они».
«Они» — скорее евреи, чем христиане; настоящие христиане в любом случае что-нибудь скажут, и повлиять на их мнение не сможет никто.
«Они смотрят на нас, — думал он, — как мы смотрим на этрусков: странный народ, о котором мы ничего не знаем. „Главная характеристика религии, которую вы исповедуете, — он мысленно придал своим словам нужный акцент, — это несомненно скрытность. Вы — тайные евреи“».
Он мысленно увидел их реакцию, реакцию своих друзей-евреев, к которым обращался. Увидел, как они тихо и недоуменно ожидают продолжения, как будто сейчас, после фразы «вы — тайные евреи» последует некое новое утверждение… Но, поняв, что такового не последует, они отворачиваются и молча переглядываются, дабы убедиться, что сосед думает то же: им только что заявили, что огонь горячий.
«Тайные евреи, — думал он. — А Книга Левит грозит опустошением земли, если израильтяне не будут соблюдать заповеди. Там говорится, что земля удовлетворит себя за субботы свои во дни запустения[2]. Разве это нельзя применить — как это наверняка происходило, и я бы мог это утверждать, если бы знал Талмуд и комментарии — к еженедельной субботе?»
Он ненавидел выражение собственного лица, когда ему приходила — и он это осознавал — мысль, которую он полагал глубокой. В такие моменты мышцы лица расслаблялись, глаза смотрели вниз и чуть в сторону, но, когда он ощущал, что лицо его приняло соответствующее выражение, когда осознавал, что унесся мыслями вдаль, ему становилось приятно. Он чувствовал, что его лицо при этом несло на себе печать приближения к мудрости, и полагал, что в такие минуты становился красивым, пусть только на короткий период. И он ненавидел себя за такое предположение и за удовольствие, которое получал от этой мысли.
«Кто я такой, чтобы претендовать на мудрость, и что это за мудрость такая, если она мгновенно перевоплощается в гордыню? До чего же я слаб. Слаб до отвращения. И это ощущение превосходства над своими близкими, которое мной овладевает… — Он покачал головой. — Да кто я такой, чтобы чувствовать свое превосходство?
Говорят: „Если ты встаешь бодрым после молитвы, твоя молитва была услышана“. Я желал часы „Брегет“. Золотые. С моими инициалами на крышке. И я сказал об этом. И жена купила мне эти часы. Счастье обладания ими оказалось омрачено мыслью о том, что я сам напросился на подарок. Получился не сюрприз, а предвосхищенное удовлетворение желания, иначе говоря, разочарование. Я подстроил покупку часов. Выстрадал ее. Что, разве „Брегет“ показывает время точнее, чем „Иллинойс“? Или чем грошовый „Ингерсолл“? А если и так, что с того? Ведь каждый раз, когда я смотрел на эти часы, в мою голову могла прийти только одна мысль: „Вот часы, которые я выпросил у женщины“.