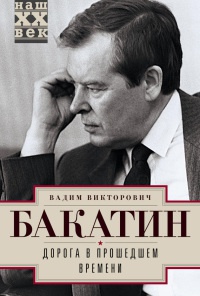Менкен с Кесслером отвели Пилигрима в хирургическое отделение, где ему обработали раны на запястьях. Хотя он потерял много крови, ущерб, нанесенный здоровью, был бы куда значительнее, если бы Пилигрим порезался ножом. Однако ножи, подаваемые на подносах тем пациентам, которые питались в номерах, всегда имели закругленные кончики и тупые края. Порезаться ими было невозможно.
Когда остальные ушли, Фуртвенглер вздохнул и беспомощно всплеснул руками.
— Что же мне с вами делать? — спросил он, усевшись на кровать Пилигрима.
— Со мной? — удивился Юнг. — Почему — со мной?
— Мы могли предотвратить это, если бы вы не вмешались.
— Никто не смог бы этого предотвратить, — сказал Юнг. — Вы только подумайте! Человек пытается убить себя ложкой. По-моему, это крайняя степень отчаяния. Я тут ни при чем.
— Вы подлизывались к нему. Когда вы подали ему пиджак, он понял, что может вертеть вами как хочет. Я просто не знаю, как быть. То же самое вы сделали с Блавинской. Вы восторгались лунными чудесами. И с человеком-собакой — помните? Вы позволили его хозяйке водить несчастного на поводке. Вы сказали человеку-с-воображаемым-пером, что он написал самую прекрасную книгу на свете. Клянусь, вы не желаете вернуть им рассудок! Вы хотите оставить их в мире грез.
Юнг отвернулся к комоду и тронул пальцем фотографию в серебряной рамке. На ней была женщина в трауре — потупленные глаза, опущенная вниз голова, черные бисер и платье.
— Это неправда. Я вовсе не хочу, чтобы они остались в мире грез. Но кто-то должен сказать им, что их фантазии реальны. — Подумав немного, он добавил: — и их кошмары тоже.
— Они не реальны! Это проявление безумия, не более того!
— Луна реальна, — возразил Юнг. — Собачья жизнь тоже реальна. Воображаемый мир реален. Если они верят во все это, мы тоже должны поверить… по крайней мере до тех пор, пока не научимся говорить на их языке и слышать их голоса.
— Да, конечно. — Фуртвенглер снова вздохнул. — Все это я знаю. Но вы заходите слишком далеко. Когда Пилигрим заговорил, что он сказал вам? «Убейте меня». Мне бы он такого не сказал. И Менкену, и Блейлеру тоже. Он не сказал бы этого ни единому врачу в нашей клинике. Ни единому! Только вам. И все потому, что вы вечно притворяетесь союзником, чуть ли не сообщником пациентов!
— Я действительно их союзник. Для этого я здесь нахожусь. Мы все их союзники, Йозеф.
— Нет, мы вовсе не затем здесь находимся! Не для того, чтобы быть их союзниками или сообщниками. Друзьями — да. Мы обязаны относиться к ним с сочувствием, но мы не можем потворствовать их причудам и позволять им устанавливать правила. Правила диктуем мы! Их диктует реальность! Не они. Не сумасшедшие… умалишенные…
— По-моему, мы решили не употреблять эти слова, — заметил Юнг. — Мы не говорим «сумасшедшие» и «умалишенные». Таков уговор.
— А я говорю «сумасшедшие» и «умалишенные», когда их вижу! И в данный момент я считаю, что сумасшедший — это вы. — Фуртвенглер встал. — Господи Боже мой! Он пробыл у нас всего два дня — и уже попытался покончить с собой!
— Такова его натура, — сказал Юнг. — Это совершенно очевидно.
— Опять вы за свое! Очевидно! Что вам может быть очевидно в случае с Пилигримом? Вы едва его знаете!
— Я принимаю то, что получаю, — сказал Юнг. — То, что они могутмне предложить. Он предложил разрезанные запястья. И дальше что?
— А дальше — оставьте его в покое! Я сам им займусь.
— Тогда зачем вы меня пригласили? И Арчи Менкена? Зачем вы попросили нас прийти?
Фуртвенглер хотел постучать себя по лбу и сказать: «Потому что я дурак».
— Сам не знаю, — сказал он вслух. — Возможно, во всем виновато мое старомодное воспитание. Я привык считать, что врач обязан интересоваться мнением других специалистов. Что ж, впредь буду умнее. Тем более что у нас с вами постоянно возникают стычки.
— Мне жаль, что вы так думаете.
— А как прикажете думать? Вы не оставили мне выбора, Карл Густав.
— И что же теперь будет?
— Я вынужден попросить вас более не контактировать с мистером Пилигримом.
С этими словами Фуртвенглер отвернулся, подошел к двери между двумя комнатами, задержался на мгновение и бросил через плечо:
— Всего хорошего.
— Всего хорошего, — шепотом произнес Юнг.
Услышав, как закрылась дверь, он повернулся к окну, сел и уставился на свои ладони. «У меня крестьянские руки, подумал он. — Крестьянские руки — и топорные методы работы».
Через минуту вернулся Кесслер и сказал ему, что мистера Пилигрима до завтра оставят в изоляторе.
— Он сильно поранился? — спросил Юнг.
— Не смертельно, хотя порезы довольно глубокие, если учесть, что он сделал их ложкой. За ним просто понаблюдают. Я только что встретил в коридоре доктора Фуртвенглера, и он сказал, что пойдет проведать его.
— Понятно.
— С вашего позволения, я немного приберусь в ванной комнате.
— Да, конечно.
Юнг остался в спальне Пилигрима, бесцельно шагая от кровати к комоду, от комода к столу, рассеянно проводя пальцем по их поверхности, словно проверяя, нет ли там пыли. Он задержался у комода, вытащил и задвинул по одному все ящики, перебирая носовые платки, рубашки, нижнее белье и аккуратно сложенные галстуки.
Пилигрим был явно состоятельным человеком. И разборчивым: он предпочитал количеству качество. Люди, рожденные в мире, где утонченность и богатство идут рука об руку, считают, что иметь вещей больше, чем необходимо, вульгарно и почти неприлично. Сложенные рубашки, которые ощупывал Юнг, прослужат еще лет десять — пятнадцать, если только их хозяин не растолстеет. Воротнички, конечно, дело другое. И носовые платки, разумеется, не рассчитаны на столь долгий срок, равно как и носки. Простое и удобное нижнее белье можно было носить года три-четыре. А галстуки — те просто вечны.
Вечны. Почему ему в голову сегодня постоянно лезет это слово? Вечно. Вечность. На прошлой неделе такого не было. И вчера тоже. Именно сегодня… Вечно.
Ладно, Бог с ним…
Он снова глянул на женское лицо в серебряной рамке. Очевидно, фотография сделана лет двадцать — тридцать назад, до смены веков. Кого она оплакивала — умершего ребенка? Мужа? А может, себя?
Кесслер собрал разбросанную в ванной одежду Пилигрима, чтобы сдать ее в прачечную.
— Странно, — сказал он Юнгу, свалив кучу на кровать и принявшись разбирать ее, — одежда, которую снимают с себя самоубийцы, всегда почему-то кажется грязной. Я одевал его сегодня утром и знаю, что все было свежевыстиранным и выглаженным. Но хотя мои пальцы знают, что одежда чистая, все внутри меня инстинктивно встает на дыбы.
— Это называется «атавистическая реакция», Кесслер, — отозвался Юнг. — Точно так же любой ребенок, даже младенец, чувствует, что гадюка опасна. Однако мистер Пилигрим не покончил с собой. Он еще жив.