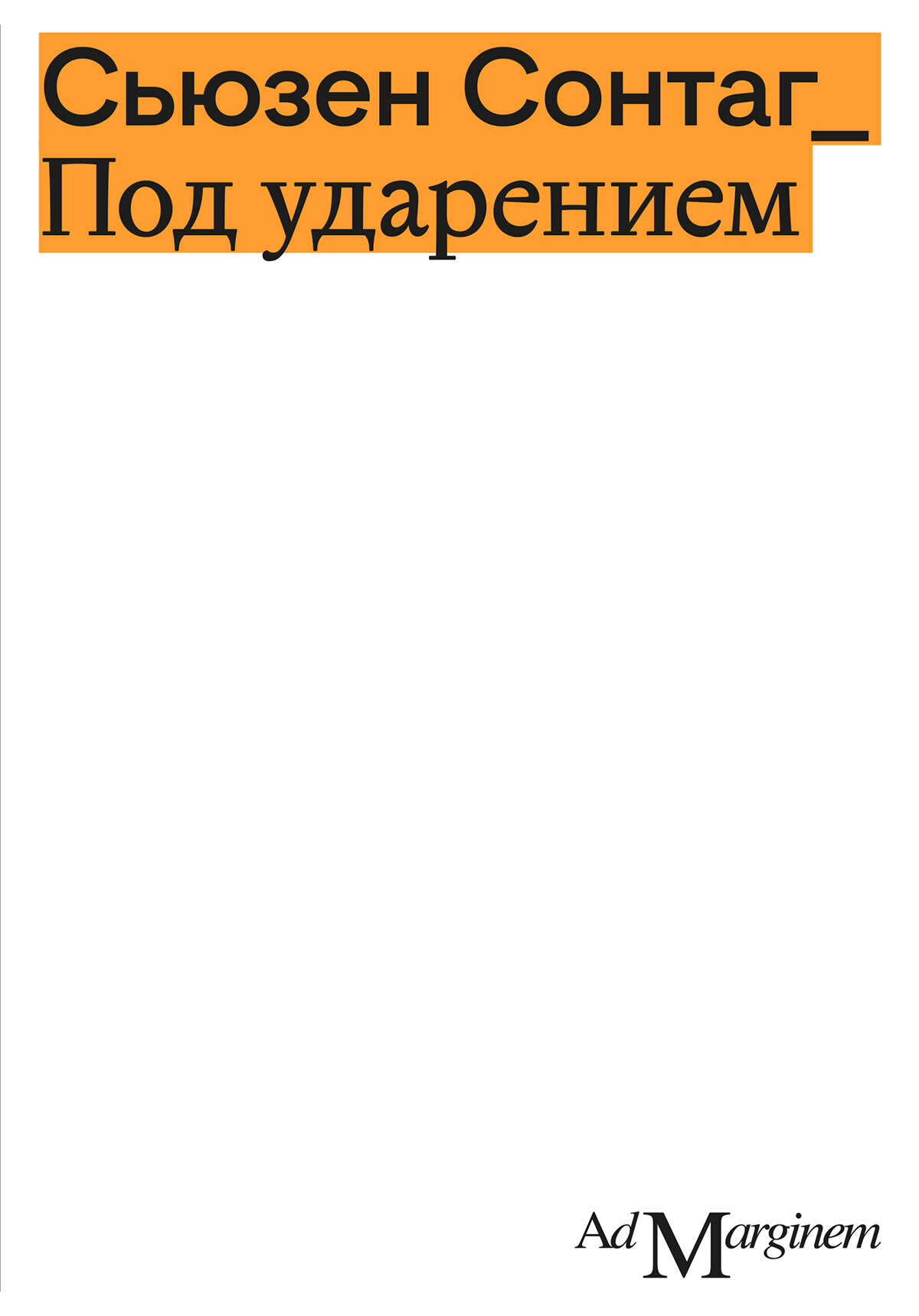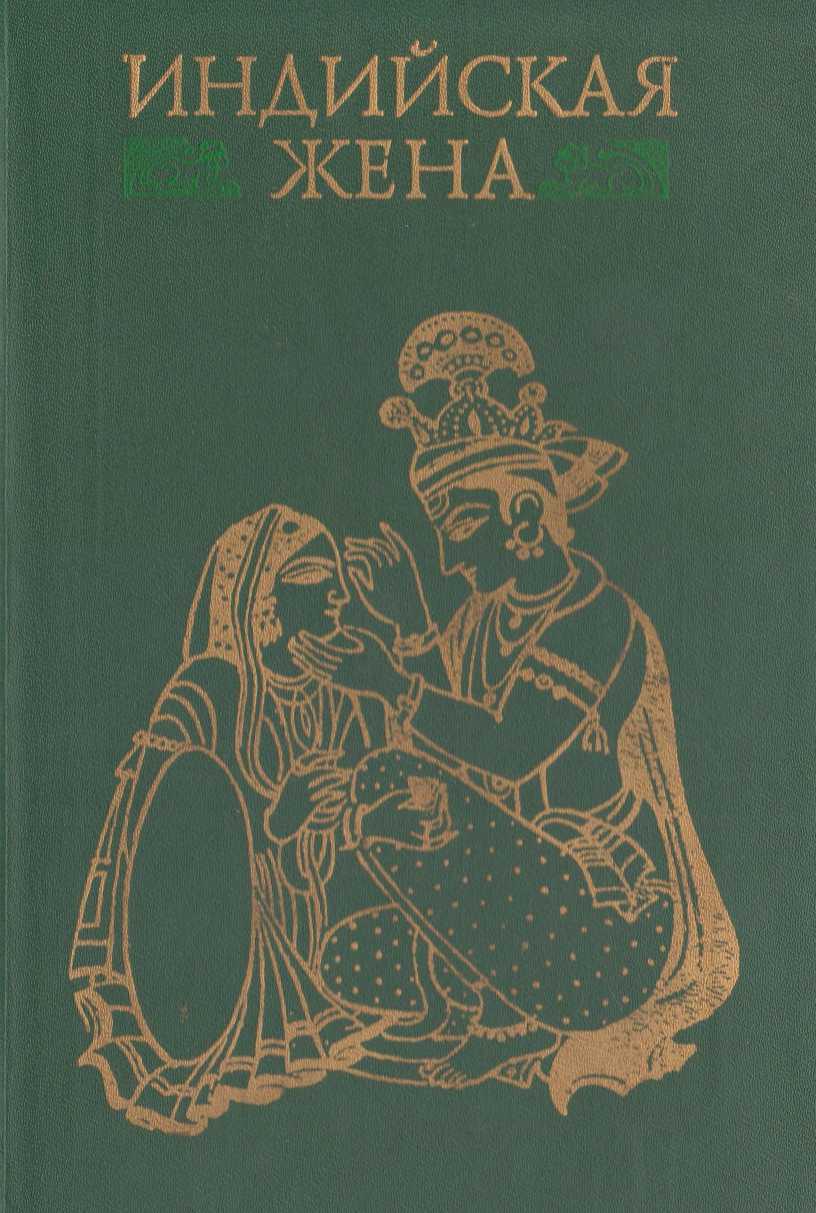роман-манифест о женщине, отказавшейся от любви достойного мужчины и чувственной привязанности в пользу карьеры и одиночества.) Феминизму, увы, приписывали много лишних значений. Можно определить феминизм как систему убеждений, как приверженность справедливости, достоинству и свободе, которую поддержали бы почти все независимые женщины, если бы не боялись слова со столь неоднозначной репутацией. Иное же определение напрашивается на критику и возражения, которые оно и встретило со стороны Банти (и Арендт, и Колетт). Эта иная версия феминизма означает войну против мужчин, совершенно неприемлемую для таких женщин; означает воспевание женской силы — и отрицание реальных трудностей и цены, которую за силу приходится платить (в первую очередь цены в виде мужской поддержки и любви); более того, эта версия призывает женщин гордиться тем, что они женщины, и даже считать себя выше мужчин, — все эти сентименты были чужды многим независимым женщинам, которые дорожили своими достижениями и знали, каких жертв и компромиссов они им стоили.
Артемизия полна торжества пафоса женского самосознания: женской слабости, женской зависимости, женской изоляции (если вдруг она хочет быть кем-то, кроме дочери, жены или матери), женских печалей, женского горя. Быть женщиной — значит жить в заключении, бороться против заключения — и отчаянно желать заключения. «„Если бы я не была женщиной“, эта бесполезная жалоба, — размышляет Артемизия у Банти. — Лучше держаться ближе к простому народу, лучше жить его невидимой глазу, чудесной, жертвенной судьбой, разделять его чувства, надежды, правду; лучше быть посвященной в тайны, неведомые мужчинам, баловням судьбы». Но, увы, достижения Артемизии закрывают для нее путь к этому дому.
У Артемизии был муж, порядочный мужчина, но спустя несколько лет исчез из ее жизни. У нее была дочь, которая, лишенная материнского внимания, в конце концов разлюбила ее. Артемизия решила стать, или пытаться стать, «той, что оставила в прошлом все привязанности и стремление похваляться женскими добродетелями», — а для женщины добродетель означает самоотречение, — «чтобы заниматься лишь живописью». Артемизия — это трагическая рефлексия о бытии женщиной и отказе от норм, приписываемых этому полу, — в отличие от комичной, триумфальной, нежной сказки Орландо. Роман Банти исключителен не только в наглядной демонстрации того, каких лишений для женщины стоит решение быть независимой, быть творцом, но и в отчаянной дерзости своего духа: достоинство выбора Артемизии ни на секунду не подвергается сомнению.
Если читать Артемизию только как феминистский роман, коим он несомненно является, он лишь подтвердит то, что мы и так знаем (или думаем, что знаем; или то, о чем мы бы хотели просветить других). Но его сила как литературного произведения еще и в том, что он ставит нас перед неизвестным или не понятым полностью. Чувство чуждости — частый эффект того, что называется «исторической» прозой. Хорошо писать о прошлом — это примерно то же самое, что хорошо писать фантастику. Именно чуждость детально описанного прошлого производит впечатление его реальности.
Как и в случае Орландо, общепринятые ярлыки вроде исторического романа, биографической повести или художественной биографии не могут в полной мере объять Артемизию. Помимо удовольствия от прочтения, эта книга предлагает оригинальное, эмоциональное размышление о допущениях художественного вымысла и вместе с тем чествует воплощенное в живописи совершенство воображения. Большая сила романа Банти в ее глубоком понимании того, как изображают рука, глаз и разум.
Агнес, автобиографическая протагонистка Анны Банти из Пронзительного крика, называет там свой роман об Артемизии Джентилески «любимой книгой». Значит ли, что этот роман она не хотела уничтожить, в отличие от остальных своих художественных книг? Ей ужасно не нравится, когда ее называют «писательницей» и когда среди ее недалекого женского окружения «каждая утверждает, что читала как минимум одну мою книгу (всегда одну и ту же)». (Очевидно, Артемизию.) Она каждый раз содрогается от «обвинений в феминизме», хотя, размышляя о своем выборе сюжетов, признает, что «вполне заслужила» их. После стольких лет службы «гипотетической интерпретации истории» она жаждет наконец начать всё с чистого листа. Ей хочется — а потом вдруг не хочется — написать «современный роман», «напичканный уже устаревшим настоящим».
Повествования, действие которых происходит в прошлом, часто автоматически считают старомодными в своей форме и проблематике. Сам факт обращения к прошлому видится как попытка избежать настоящего. Но в Артемизии нет ни капли ретроградного — только смелое, искусное исследование того, что значит создавать вымышленную историю реального человека, — а таковыми являются все повествования во всех романах, не только исторических. В действительности под личиной исторического или биографического романа — вымышленных версий жизни настоящих людей — скрываются самые оригинальные художественные произведения ХХ века. Щемящая полнота и поразительная чувственная детальность изображения прошлого, портрет эволюции сознания героя ставят Артемизию в один ряд с романом Пенелопы Фитцджеральд Голубой цветок о жизни поэта Новалиса. В одержимости героя, в форме диалога-допроса, в двойном повествовании (в прошлом и настоящем) и в свободном чередовании первого и третьего лица просматривается почти родственное сходство с Летом в Бадене Леонида Цыпкина, повестью о жизни Достоевского. Звание исторического романа умаляет значение подобных книг, построенных вокруг трудностей жизненного пути и одновременно пути израненной души, — как, например, Воспоминания Адриана. Если уж применять этот термин, то следует как минимум разделять романы, в которых всевластный голос автора пересказывает события прошлого, и романы-диалоги, в которых действие перенесено в прошлое с целью размыслить об отношении прошлого и настоящего, что есть в высшей степени современный подход.
Анна Банти не хотела утратить свою рукопись в битве за Флоренцию в августе 1944-го. Никакой автор не пожелает такой участи. Но нет никакого сомнения, что величие Артемизии — и ее уникальность в библиографии Банти — в ее двойной судьбе книги утраченной и воссозданной. Именно посмертное переписание, воскрешение романа дало ему невероятную эмоциональную силу и моральный авторитет. Быть может, это метафора самой литературы. Или метафора чтения, воинственного чтения — и его самого ценного подвида: перечитывания.
_Непогасший. В защиту Виктора Сержа
…ведь существует же правда, несмотря ни на что![6]
Дело Тулаева
Как объяснить малоизвестность одного из самых интригующих героев этики и литературы ХХ века — Виктора Сержа? Почему слава обошла великолепный роман Дело Тулаева, который с момента его публикации в 1948 году, через год после смерти Сержа, регулярно то предают забвению, то вновь вспоминают?
Причина ли в том, что непонятно, каково гражданство его автора? «Политический изгнанник от рождения» — так Серж (настоящее имя: Виктор Львович Кибальчич) описывал сам себя. Его родители были ярыми противниками царизма и покинули Россию в начале 1880-х, а Серж родился в 1890 году «волей случая <…> в Брюсселе, на перекрестке мировых дорог»[7], — рассказывает