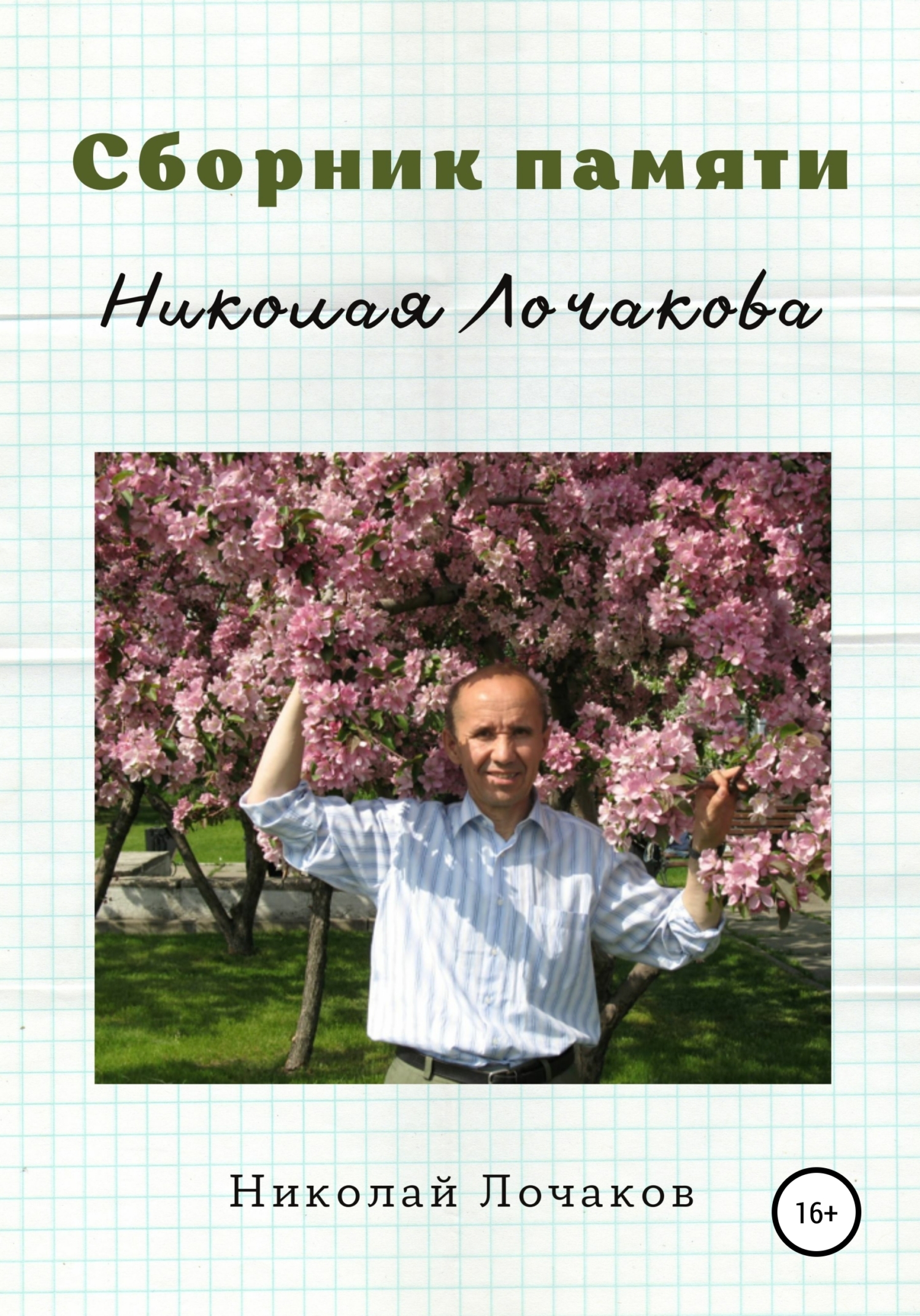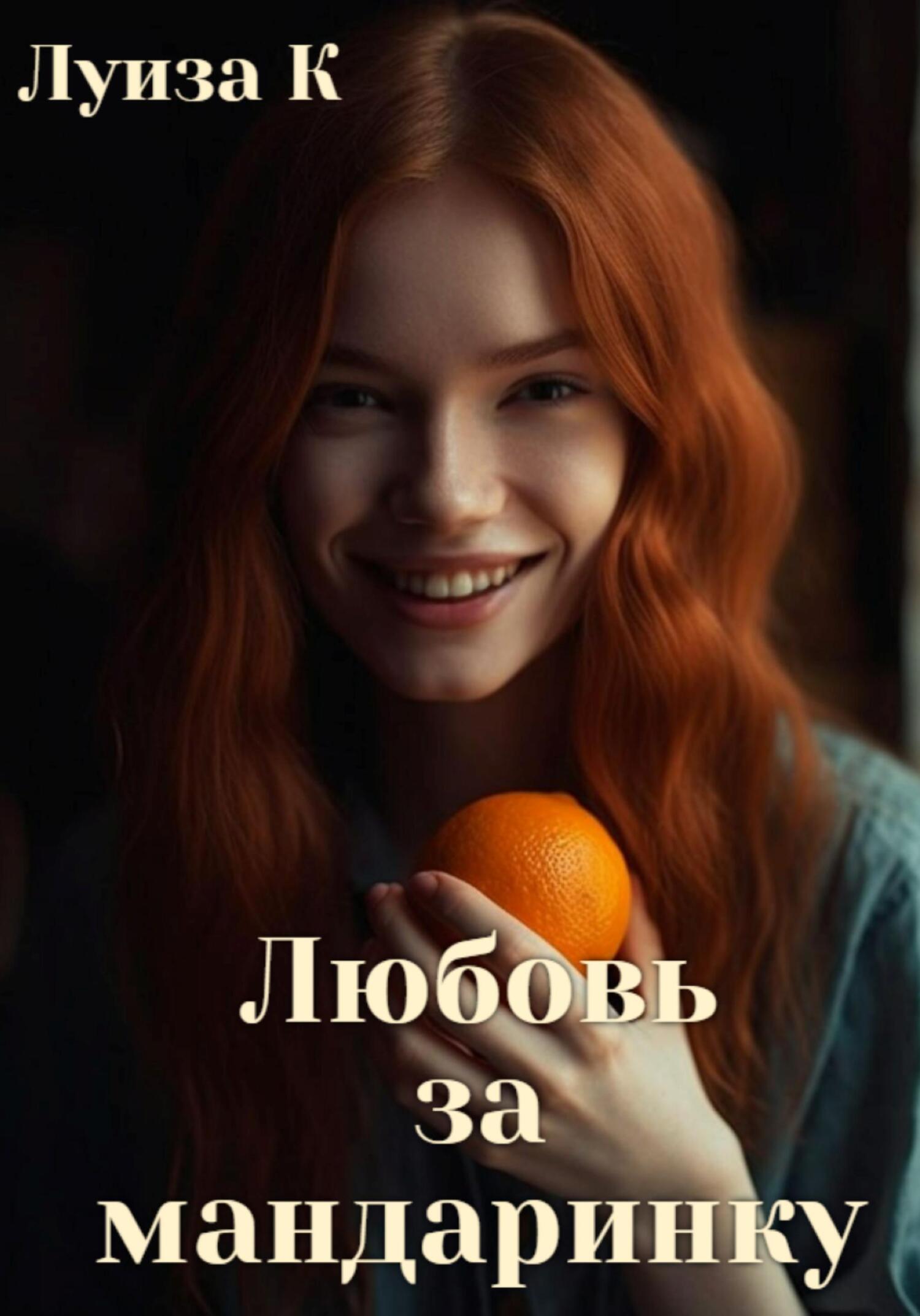его ветвях, взмывают в небо и начинают кружиться в бешеном водовороте… Затем они исчезают за горизонтом, и возвращается тишина, наступает утро… Я бросаюсь в погоню за птицами, бегу с такой скоростью, что лопается кожа и сердце больно бьется о ребра… Останавливаюсь на берегу бурлящей, черной реки… Напрягаю зрение и вижу, что на другом берегу стоят, взявшись за руки, вокруг ямы в земле мои отец, мама, две маленькие сестры, девушка в красном плаще и какой-то мальчик… Они стоят как камни, как деревья на опушке… Если у меня хватит мужества броситься в реку, я смогу доплыть… Но у меня никогда в жизни не хватит на это мужества. Никогда. Мне страшно, ведь однажды вода уже убила меня… И я стою на берегу и зову их голосом, которого они не слышат, на языке, которого никто не знает.
Не знаю, как долго продолжался этот бред. Ночь? Сутки, неделю, год? А может, еще дольше? Когда я пришел в себя и увидел сырое, стальное небо, то почувствовал, что выздоровел, хотя едва мог пошевелить рукой, а внутри все горело и саднило. Мои сиделки — Раньо и Дзандзаро — играли в карты у меня на животе. Это была странная игра, лишенная логики, потому что карт у них было штук сто из разных колод. В руках они держали по целому вееру, а остальные лежали кучкой у меня на животе.
— Пятерка есть? — спросил Раньо.
Дзандзаро задумался, начал чесать затылок.
— Чинкве![14] Чинкве!!! — заорал Раньо, показывая пять пальцев. — Нету? Тогда бери!
Раньо начал тянуть из колоды карты одну за другой, пока ему не попалась «пятерка», которую он с торжествующим видом показал Дзандзаро.
— Ты шулер, Раньо.
— А ты кровопийца.
Я кашлянул, показывая, что пришел в себя.
— Эй, смотри, он проснулся.
Дзандзаро положил влажную ладонь мне на лоб.
— Принести тебе чего-нибудь поесть? Может, чая?
— Парень, ты спал слишком долго. Это все из-за того, что ты пошел гулять с этими ирландскими отморозками. Зря ты с ними связался.
Я огляделся в поисках своих друзей, но, как обычно днем, в лагере никого не было. Кроме нас троих.
— А какой день сегодня?
Дзандзаро поднял вверх палец, определяя ветер.
— Я бы сказал, что вторник.
— Нет. Я имею в виду, какой день месяца?
— Малыш, я не знаю даже, какой сейчас месяц, не то что день.
— Дело явно идет к весне, — перебил его Раньо. — Дни становятся длиннее.
— Значит, я пропустил Рождество, — огорчился я. Парни пожали плечами.
— И проморгал Санта-Клауса…
— Кого-кого?
— Как отсюда уйти?
Раньо показал глазами на тропинку между деревьями.
— Как уйти отсюда домой?
Их глаза потухли, они отвернулись от меня и, взявшись за руки, зашагали куда-то прочь. Мне хотелось заплакать, но слез не было. Сильный холодный ветер гнал с запада темные тучи. Забившись под одеяло, один на один со своими горестями, я наблюдал, как остальные подменыши возвращались в лагерь и начинали заниматься хозяйственными делами. На меня обращали внимания не больше, чем на кочку, мимо которой проходят каждый день. Игель занялся костром и, ударив кремнем о камень, высек искру и разжег огонь. Две девочки, Киви и Бломма, отправились в почти пустую кладовую и выкопали из земли наш скудный ужин — замороженную белку, с которой они тут же принялись сдирать шкуру остро наточенным ножом. Крапинка насыпала в старый чайник немного высушенных растений и наполнила его водой. Чевизори на сковороде жарила кедровые орешки. Мальчишки, которые не были заняты приготовлением пиши, переодевались в сухую одежду. Все эти простые вещи делались без спешки и почти без разговоров. Спать обычно все укладывались тоже в полной тишине. Пока белка жарилась на вертеле, ко мне подошел Смолах и очень удивился, обнаружив, что я пришел в сознание.
Энидэй, тебя можно поздравить с воскрешением?
Он протянул мне руку и помог встать на ноги. Мы обнялись, и он сжал меня так сильно, что кости у меня хрустнули. Придерживая одной рукой за плечи, он подвел меня к костру, где нас встретили с удивлением и радостью. Бека одарил меня апатичной полуулыбкой. Игель — скрестив руки на груди, он что-то вещал с серьезным видом — слегка кивнул на мое приветствие. Потом все набросились на белку и орешки, но, конечно же, эта скудная еда не смогла утолить голод всех собравшихся. Безуспешно попытавшись прожевать жесткое мясо, я отставил свою тарелку в сторону. В пламени костра все лица радостно светились, а измазанные жиром губы делали улыбки в прямом смысле слова сияющими.
После ужина ко мне пододвинулся Лусхог и прошептал на ухо, что приготовил для меня сюрприз. Мы вышли из лагеря, и последние розовые отблески заката освещали нам путь. Между двумя большими камнями лежали четыре маленьких конверта.
— Бери, — сказал он, подняв верхний камень.
Я едва успел выхватить письма из-под него, как Лусхог его отпустил. Порывшись в мешочке, висевшем у него на груди, Лусхог выудил оттуда остро отточенный карандаш и застенчиво протянул его мне. — Это тебе для начала. С Рождеством!
— А сегодня Рождество?
Лусхог посмотрел по сторонам, словно проверял, не слышит ли кто нас:
— Ты его не пропустил, так что считай, тебе повезло.
— С Рождеством, — сказал я ему. И начал распечатывать свои подарки. К сожалению, у меня сохранилось только два письма из тех четырех, но потерянные не представляли особенной ценности. Одно было уведомлением об оплате ипотеки, и потом я отдал его Лусхогу, чтобы тот скрутил себе очередную папиросу. Другое оказалось письмом взбешенного читателя в какую-то газету: он последними словами поносил Гарри Трумэна. Листок был исписан с обеих сторон мелким почерком, даже полей не осталось, и потому ни для чего не годился. А вот еще в двух письмах свободного места оказалось куда больше, особенно в одном, написанном крупными буквами с большими пробелами между строчек.
2 февраля 1950
Миленький мой!
Та ночь так много значела для меня што я не могу понять почему ты мне не звонишь и не пишеш после той ночи. Я ничего не понимаю. Ты сказал мне што ты любешь меня и я тебя тоже люблю, но ты не ответил на целых три моих письма и домашний телефон тоже не отвечает и даже телефон на твоей работе тоже. Я обычно не делаю в машине то што мы с тобой делали, но ты же сказал што любешь меня поэтому я это и делала с тобой и ты все время говорил мне што любешь меня с такой страстью