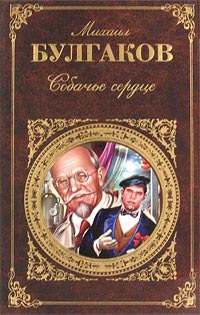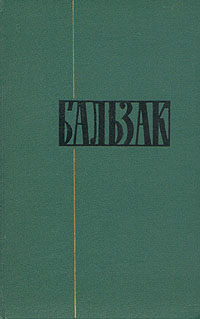речь невнятна: старые люди часто не сознают своей немощи.
Я вышла во двор побродить, потом села под манговым деревом и, прислонившись спиной к шершавому стволу, стала вдыхать аромат спелых плодов. На душе у меня все еще было неспокойно. Рядом со мной неподвижно лежал одуревший от зноя хамелеон; о том, что он жив, я могла судить только по тому, что его горло раздувалось. Он был бледно-зеленого цвета, как и опавшие листья, на которых лежал. Я взяла камешек и бросила в него. Хамелеон очнулся от дремоты и отполз на несколько ярдов. Едва он лег на голую землю, как сразу же принял окраску почвы. Чтобы позабавиться, я бросала камни, заставляя животное отползать все дальше и каждый раз менять окраску, пока оно, обессиленное, не выползло на самый солнцепек. Тогда я поняла, что это существо, оказывается, вовсе не отупело от жары, а страдает от моей жестокости. Я с отвращением отвернулась. Хотя в эту минуту я ненавидела себя, побуждение мучить хамелеона было настолько сильным, что я едва сдерживалась и, наверное, не сдержалась бы, если бы ко мне не подошел Говинд.
— Какая муха тебя укусила? — резко спросил он. — Я наблюдал за тобой — и не верил своим глазам.
Я смотрела на него, слишком расстроенная, чтобы отвечать. Видимо, он понял это и не повторил упрека, а просто сел рядом, храня обычное молчание.
— Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что делаем. — Голос Говинда звучал уже спокойно. Видя, что я закрыла лицо руками, он заставил меня опустить их.
— Не знаю, что на меня нашло, — вымолвила наконец я. — Это, по-видимому…
— Ты должна научиться не принимать все так близко к сердцу, — перебил он. — Непременно должна, иначе истерзаешь себя.
Легко советовать — не терзать себя. Как будто можно превратить свое сердце в бесчувственный твердый камень, способный сопротивляться любому воздействию.
— Я знаю, ты тоскуешь по Ричарду, — сказал он. — Чего скрывать? Нас сейчас никто не слышит. И о брате своем беспокоишься. Это и выбивает тебя из колеи. Но вот увидишь: пройдет несколько месяцев, и ты успокоишься. Вряд ли даже вспомнишь, о чем горевала.
Этому невозможно было поверить. О чужих-то делах легко судить. А вот попробуй о своих…
— А по мне ты будешь скучать? — спросил он. — Я ведь тоже скоро уеду. Ты это знаешь?
— Уедешь? — уныло отозвалась я. — Куда? Когда?
— Скоро. Мне предложили место. И я намерен дать согласие.
— Но я полагала… Отец сказал:.. Он хочет, чтобы ты служил у него:
— А я вот не хочу служить у твоего отца. Тем более клерком.
— Не все же время клерком, а только сначала.
Он угрюмо посмотрел на меня, отвернулся и отрезал:
— Возможно. И все-таки я не хочу. У меня другие планы.
— Когда же ты уезжаешь?
— В конце года. Как только получу диплом.
Теперь я уже забыла о себе и засыпала его вопросами: что за место? Как он его получил? Где будет жить? Один или с приятелем? Но Говинд почти ничего больше не сказал и снова ушел в себя — он был молчалив по натуре. Заговорил он только потому, что хотел узнать, что со мной происходит. Скоро и я умолкла, я понимала, что он завел этот разговор ради меня, потому что беспокоится обо мне, но я не могла ничего объяснить ему, не знала, как выразить свои чувства. Бывает ведь так: хочешь сказать, а нужных слов не находишь.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Наступил июнь, месяц свадеб, а Кит все еще не выбрал невесту. Прошло уже порядочно времени с тех пор, как мама дала ему небольшой список молоденьких девушек— современных, закончивших колледжи, с музыкальным и художественным образованием, из хороших семей, с подходящими гороскопами, к тому же привлекательных на вид и с богатым приданым. Но Кит сказал, что при такой жаре не может ни о чем думать, тем более о женитьбе. Мама вздохнула и стала ждать. Начался сезон дождей, подули ветры, сгибавшие деревья и прижимавшие к земле траву и кустарники. Потом растения выпрямились, оделись зеленым нарядом; земля обновилась, воздух стал чистым и свежим. И мама пришла к нему опять. На этот раз он сказал, что это варварский обычай — жениться на девушке с приданым, что он, как и все порядочные люди, против такого обычая. Неужели он должен жениться ради денег?
Он повторял это много раз. В конце концов мама холодно, язвительно ответила, что приданое предназначается не для него, а для поддержания достоинства его будущей жены, которой не придется выпрашивать милостыню, чтобы прокормить себя. Можешь быть уверен, сказала она, что деньги положены на ее имя, а драгоценности носить.
Кит замолчал. А время шло и шло, и мама опять подступила к нему. Он закричал: «Да не могу я так! Как можно жениться на девушке, которую даже ни разу не видел? Как можно спать с ней, называть ее своей женой? Я так не могу». Но он не сказал «я не хочу», и мама обошлась с ним деликатно. Она понимала, что он усвоил западные взгляды на брак и принуждением тут ничего не достигнешь; «Ты только выбери, — просила она. — И девушка сама придет к нам в дом. Я же не прошу тебя жениться на первой встречной». — «А если мне…» — начал было он. «Никто тебя неволить не будет, — заверила она. — Девушек-то много».
Так у нас появилась Премала. Она приехала к нам погостить вместе с матерью, у которой тоже был сын, вернувшийся из Англии, и которая отнеслась с полным пониманием к тому, что от них требовали. Не хотелось, конечно, потакать этой новой странной манере ухаживания, но таков уж дух времени. Обе матери, проникшись взаимной симпатией, быстро нашли общий Язык и даже сумели утихомирить — хотя для этого потребовались их совместные усилия — Додамму, считавшую всю эту затею бесстыдной и опасной, что она и высказала им без всякого колебания.
Премала, конечно, знала, на что идет, знала, что ей придется пробыть у нас долго, потому что поспешность в подобных делах излишня, знала, чего от нее ждут. Но ни одна женщина в конце концов не смотрит на брак легко и просто, ибо путь к нему всегда таит какие-нибудь неприятности. А положение Премалы было вдвойне сложно, она никогда до этого не выезжала из дому и никогда ее не оставляли одну. И вот теперь, стоя рядом с ней на террасе, пока наши матери прощались друг с другом,