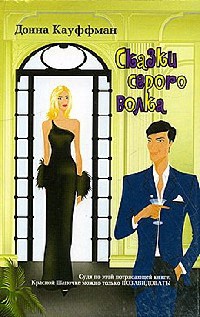но пришлось переплачивать, чтобы они закрыли глаза на отсутствие документов. Деньги стремительно таяли, и на следующий день их едва хватило, чтобы купить еды и просидеть в тепле ближайшей гостиницы до закрытия. Никогда не забуду ужаса второй ночи, когда я лежала, свернувшись комочком, на крыльце собора. Я боялась темноты, одиночества, безденежья и замерзнуть до смерти. Еще пару холодных дней и ночей я побиралась и даже украла несколько булок из уличной корзины перед магазином. Тошнота мучила хуже голода. На четвертый вечер в гостиницу не пустили – я была похожа на нищенку. Мужчины провожали меня жадными взглядами, напоминавшими о Шляйхе.
На следующее утро я в отчаянии вернулась на Дуфурштрассе и снова начала стучаться в каждую дверь, начиная с первого дома. Добравшись до конца квартала, я перешла через дорогу и вернулась по другой стороне.
Поиски заняли все утро и только добавили безнадежности.
Я стояла в конце квартала, едва сдерживая слезы. Потом приструнила себя – с чего это я решила, что он уехал из города? Стучись в каждую дверь! Однако Санкт-Галлен – не крохотный Оберфальц. И прежде, чем найдешь человека, запросто умрешь от голода.
Я отчаялась, и энергия моя иссякла. Понимала, что должна как можно скорее найти профессора, не то… Думать о других возможных вариантах было невыносимо. Окинув улицу взглядом в последний раз, я медленно повернулась: решение пришло само собой – настолько простое, что я засмеялась вслух. Может, я не смогу найти дом, но если человек был у Томаса профессором, значит, преподавал в университете, и нужно искать его на работе. Когда я спросила нескольких прохожих, где находится университет, первые трое сделали вид, что не расслышали. Четвертая, молодая женщина, улыбнулась и ответила:
– Университета как такового здесь нет. Может, вы имеете в виду Высшее коммерческое училище?
И показала, как пройти.
До училища было рукой подать, однако найти тех, кто знал профессора, оказалось труднее – наконец мне указали на здание, в котором он работал. Я обошла экономический факультет и, не найдя нужного имени ни на одной из табличек, постучалась в кабинет секретаря.
– Войдите, – пригласил тихий голос.
Я вошла.
– Извините, – начала я тоном, каким приветствовала посетителей ресторана, – я разыскиваю профессора Гольдфарба.
Секретарь оказалась худенькой женщиной средних лет, прятавшейся за пишущей машинкой в кабинете, полном металлических картотечных шкафов.
– Вы студентка?
– Нет.
Она прищурилась.
– Родственница?
– Нет.
– Тогда ничем помочь не могу, – резко ответила она. – Чужим сюда вход воспрещен.
Страх, голод, отчаяние, которые я старалась скрыть, нахлынули на меня все сразу, и я села перед ней на стул.
– Не знаю что и делать, если его не найду, – вздохнула я, не сдержав рыданий.
– Простите, – мягко сказала женщина и подошла ко мне. Она стояла рядом, касаясь моего плеча. – Если это так срочно, пойду его поищу.
Я успокоилась и даже уняла рыдания, но еще вытирала слезы, когда она вернулась с неопрятным мужчиной в плохо сидящем коричневом твидовом костюме. Не бритая несколько дней седая щетина оттеняла его бледную кожу. Я встала.
– Это профессор Гольдфарб, – сказала женщина.
Он прищурился, всматриваясь в мое отчаявшееся лицо.
– Фройляйн Полт говорит, вы меня разыскиваете. Мы знакомы?
Его речь была отрывистой и ясной: немец.
– Нет. Но у меня для вас письмо, – ответила я, взмахнув помятым конвертом Томаса.
– Разрешите?
Я кивнула, и он аккуратно подцепил конверт тонкими пальцами.
– Какая холодная у вас рука. И акцент… вы ведь не местная?
– Нет. Я из Южного Тироля.
Он снова посмотрел на меня, потом сосредоточил внимание на конверте и прочитал свое имя и адрес, написанные аккуратным, чуть размазавшимся почерком Томаса. Потом перевернул письмо, взглянув на обратный адрес.
– Сядьте и подождите.
Фройляйн Полт показала мне на стул в коридоре перед ее кабинетом и принесла стакан с водой. Я устала и была рада месту, но слишком взволнована, чтобы сидеть тихо, и стала наблюдать в окно за молодыми и старыми мужчинами, идущими теми же тропами, что я исходила раньше, и старалась не думать о последствиях, если письмо Томаса не достигнет цели.
Минут через десять профессор в пальто с шарфом на шее, шляпой и портфелем в руках вернулся.
– Роза Кусштатчер?
– Да.
– Я очень уважаю Томаса Фишера, – сообщил он церемонно и в то же время мягко. – Пойдемте со мной.
Как только до меня дошли его слова, я упала на стул и заплакала.
Профессор привел меня к себе домой прямо на кухню.
– Садитесь, сейчас приготовлю вам горячего молока с медом, – приказал он. – Потом поговорим.
В углу комнаты была традиционная изразцовая печь с обвивавшей ее скамьей, и, пока он готовил, я села погреться.
– Держите, – предложил он.
Я открыла глаза и обнаружила, что, прижавшись головой к теплой печке, нечаянно задремала.
– Это вам.
Он оставил меня смаковать горячее сладкое молоко, а сам открывал дверцы шкафов и выдвигал ящики. Я поднесла чашку к носу и, вдохнув густой приторный аромат, на какой-то миг представила себя на кухне с матерью. Но быстро отмела видение: здесь было безопасно.
Пока профессор суетился на кухне, я воспользовалась возможностью рассмотреть его повнимательнее. Я воображала морщинистого седовласого старика, но ему было не больше пятидесяти. Он был кожа да кости. Я с облегчением потягивала молоко, до сих пор не веря, что его нашла.
– Вот, – он выдвинул из-за стола стул для меня. – Еды немного, но есть хлеб и сыр.
Я оторвалась от теплой печки и присоединилась к нему за столом. На плоской тарелке появился пикантный бледно-желтый сыр, маринованные корнишоны и несколько ломтиков ржаного хлеба. Я облегченно вздохнула: от голода я не умру и до смерти не замерзну, по крайней мере, не этой ночью.
Профессор тоже стал есть. Ужинали молча.
Перекусив, он опустил нож и вилку и тщательно вытер губы хлопчатобумажной салфеткой.
– Томас Фишер был моим лучшим студентом… любимцем. Он попросил меня вам помочь, – сообщил профессор и, взяв пустую тарелку, помолчал. – Боже мой, вы, наверное, голодны. Пойду-ка раздобуду чего-нибудь еще.
Он поспешно встал, отодвигая стул.
– Комната в конце коридора свободна. Оставайтесь, сколько потребуется.
В квартире профессора было полно книг и мало домашнего уюта. Единственными признаками жизни помимо работы были четыре портрета в серебристых рамочках, стоявшие на каминной полке. На первом – снимок двух мальчиков чуть старше десяти лет, закутанных в большие белые в темную полоску шали с бахромой. На втором стояла в пятой позиции девочка лет двенадцати в балетной пачке. На третьем те же трое детей, совсем маленькие, мальчики в костюмах моряков, а девочка в