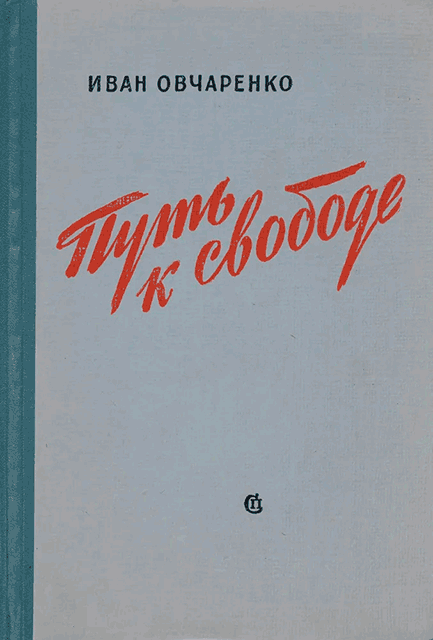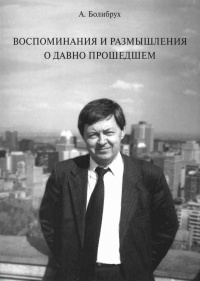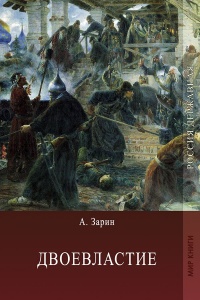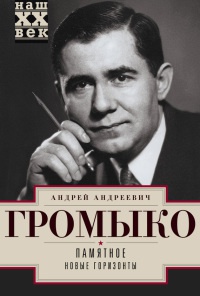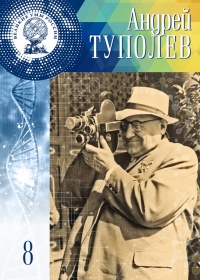будешь сегодня писать? – уныло спрашивает, кутаясь в шубу, Иван Александрович.
– Нет.
– Отчего?
– Устал. Переходил два раза поперек бульвара Осман.
«Возрождение», Париж, 8 февраля 1926, № 251, с. 2.
Драгоценные свойства
Один приятный молодой человек, усердно занимающийся в последнее время партийной деятельностью, как-то при мне жаловался на днях в одном почтенном политическом собрании:
– Понимаете… Это совершенно несознательный элемент в эмиграции… Галлиполийцы…
– В самом деле? А что?
– Да, вот, представьте. Попал вчера я в их компанию. Много говорил о том, о сем. Перешел, наконец, к животрепещущей проблеме – какая политическая концепция была бы наиболее правильной в создавшейся ситуации. А они сидят, курят, слушают. И молчат.
– Ну, что же, господа? – спрашиваю, наконец, не вытерпев. – Ясно вам это теперь с точки зрения логической, психологической и социальной? Или не ясно?
– Неясно, – отвечают хором.
– Почему же неясно?
– Не было приказа Главнокомандующего.
Долго после этого при мне, охая и стеная, беседовали о галлиполийской несознательности молодой политик и старый. Молодой пространно говорил что-то о базисе; старый главным образом налегал на тезис. А я сидел в сторонке и думал:
– Слава Богу. Значит, есть еще в эмиграции люди, которые повинуются приказам, и вместо собственных решений ожидают распоряжений. Ведь, в самом деле: если бы не галлиполийцы, кто бы у нас повиновался? Все эмигранты, как известно, только распоряжаются. Спросите случайного беженца из штатских: чей авторитет он, главным образом, признает? Конечно, свой. Если вы поговорите с ним по душе, он даже сознается, что у него есть свое собственное маленькое общество, в котором он состоит председателем. Члены этого общества, правда, немного обижены, что председатель именно он, а не они. Но в виде компенсации каждый из этих членов обязательно имеет собственный кружок, в котором тоже председательствует, которым тоже руководит.
Таким образом, в сущности, все беженцы в настоящее время председатели. В Париже, например, я не председателей до сих пор не встречал. Говорят, в прошлом году было здесь два таких, не попавших ни в какое правление. Но подобное ненормальное состояние продолжалось недолго. Один впал в отчаяние, разочаровался в эмиграции и уехал в СССР, а другой неожиданно бежал в Уругвай. Кто-то при нем обмолвился словом, будто в Уругвае председательствовать некому.
Вообще, если бы не повинующиеся галлиполийцы, ждущие распоряжений, я бы даже не мог сказать, как образовать нам эмигрантам, противобольшевицкий фронт? Для такого фронта штабов, конечно, сколько угодно, командиров не меньше. Все – председатели. Есть хоры трубачей, барабанщики, знаменоносцы свернутые и развернутые, есть Красный крест, санитары. А фронт? Где фронт? Кто на фронте?
Где, собственно те, которые могли бы взять под козырек и сказать: слушаю-с?
Галлиполийцев я люблю и уважаю именно за это редкое качество. Ведь, нечего скрывать: без начальства не только военный, даже штатский, русский человек и тот теряет значение. Качается, как былинка в чистом поле, никнет к земле. Сколько беженцев я знаю разумных, крепких, даже величественных в те времена, когда было кому повиноваться. И вот пришло освобождение, сами стали себе председателями, – и растерянность в глазах, и грусть, и тоска…
Люблю я галлиполийцев и за другое драгоценное качество: молчаливость. Конечно, ораторы народ полезный, спору нет. Когда их немного. Точно так же, как председатели. Но если в ораторы идет слишком много народа, и в слушателях остается все меньше и меньше, – это уже неприятно. На одном беженском собрании, например, я наблюдал как-то жуткое зрелище: на трибуне одиноко сидит покорный слушатель, слушает, а зал бурлит, кипит. Весь заполнен очередными ораторами.
Галлиполийцы не любят звонить во все колокола. В виде символа – у них остался там, на полуострове, скорбный памятник – каменный колокол. Не нужно этому колоколу языка, чтобы вещать. Не нужно меди, чтобы звучать. Безмолвно стоит он на виду у проходящих народов. Немой, как те, кто возле него, в земле, сурово говорит о выполнении долга, не играя с солнцем заманчивой облицовкой.
Но в затаенном молчании его каждый слышит все, что необходимо для воина. Крест памятника украшает его грудь. Черный крест непримиримости к врагу во имя золотого креста храмов. Образ надгробного камня в памяти его – во имя грядущей радости благовеста.
И вот почему нет у галлиполийцев лишних слов. Вот почему повинуются. Все пережито. Все едино. Есть испытанная грудь, есть общий крест…
Будет и приказ Главнокомандующего.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 мая 1926, № 345, с. 5.
На выставке
Хожу по залам «Шарпанье», на выставке картин Яковлева, стою подолгу перед пейзажами Сахары, любуясь озером Чад, воздушными мимозами Нигера, причудливыми горами Мозамбика… И радостно на душе, что весь этот поток посетителей-иностранцев, все эти одобрительные замечания, иногда даже выражения восторга и удивления перед мастерством художника, что все это относится к нашему талантливому соотечественнику. Слава Богу, нам есть чем гордиться. Не желая расставаться с одним из полотен, посвященным Сахаре, в котором столько задумчивой прелести, столько мистической притягательности, сажусь на диван, продолжаю смотреть. А рядом со мною на диване какая-то старушка. Уставилась странным страдающим взглядом на картину, изображающую баобаб у берегов Нигера, вздыхает, достает платочек из сумочки, прикладываете к глазам.
– В чем дело? – с удивлением скашиваю на нее глаза.
– Есаул, идите-ка сюда! – слышится, вдруг, сзади меня среди общей тишины. – Бросьте свои черные морды, хватит.
– Погодите, Матвей Дмитриевич, дайте доглядеть, – отвечает громкий уверенный голос. – Может еще кого-нибудь из знакомых встречу. Недаром, слава те, Господи, в Бельгийском Конго два года околачивался. А что, нашли Мадагаскар?
– Нашел, да. Вот номера 84 и 85. «Хо плато» и прочее.
– Иду сию минуту. Взгляну только еще разок на своего Лубенго. Приятели как-никак были. Главное, разоделся-то как, а? Фу ты, ну ты… Ножки гнуты… При мне на праздничке луны и то в таком одеянии не появлялся. Очевидно, специально для художника нацепил. С чего только похудел, бедняга? Запил, что ли? Или лихорадка?
– Здесь и столица Мадагаскара Тананариве имеется, есаул, смотрите, – продолжает звать второй русский, переходя к новой картине, и внимательно сверяя номер с каталогом. – Общий вид из дворца королевы…
– Общий вид? Интересно. Ту де сюит[37]. Дайте, пробегу только остальные, чтобы не возвращаться. Это кто? Номер 167. Жен фамм арабизе из Стенвиля. Так… Этой не знаю. Кого не знаю, того не знаю, врать не буду. И фамм арабизе, номер 168, тоже не встречал. Хотя, как будто, на одну мою приятельницу, действительно, смахивает. Мапудрой звали, в Бенгамине жила, возле лагеря. Не женщина, доложу вам, огонь! Ну, давайте теперь Мадагаскар. Где он? Не верю только, дорогой мой, в вашу идею, скажу, откровенно.
Оба русских, один бравый, высокий молодой брюнет, другой скромный старичок с маленькой седенькой бородкой, стоят у стены, внимательно рассматривают мадагаскарские пейзажи.
– По-моему, дрянь, – после некоторого молчания, громко, с пренебрежением, произносит, наконец,