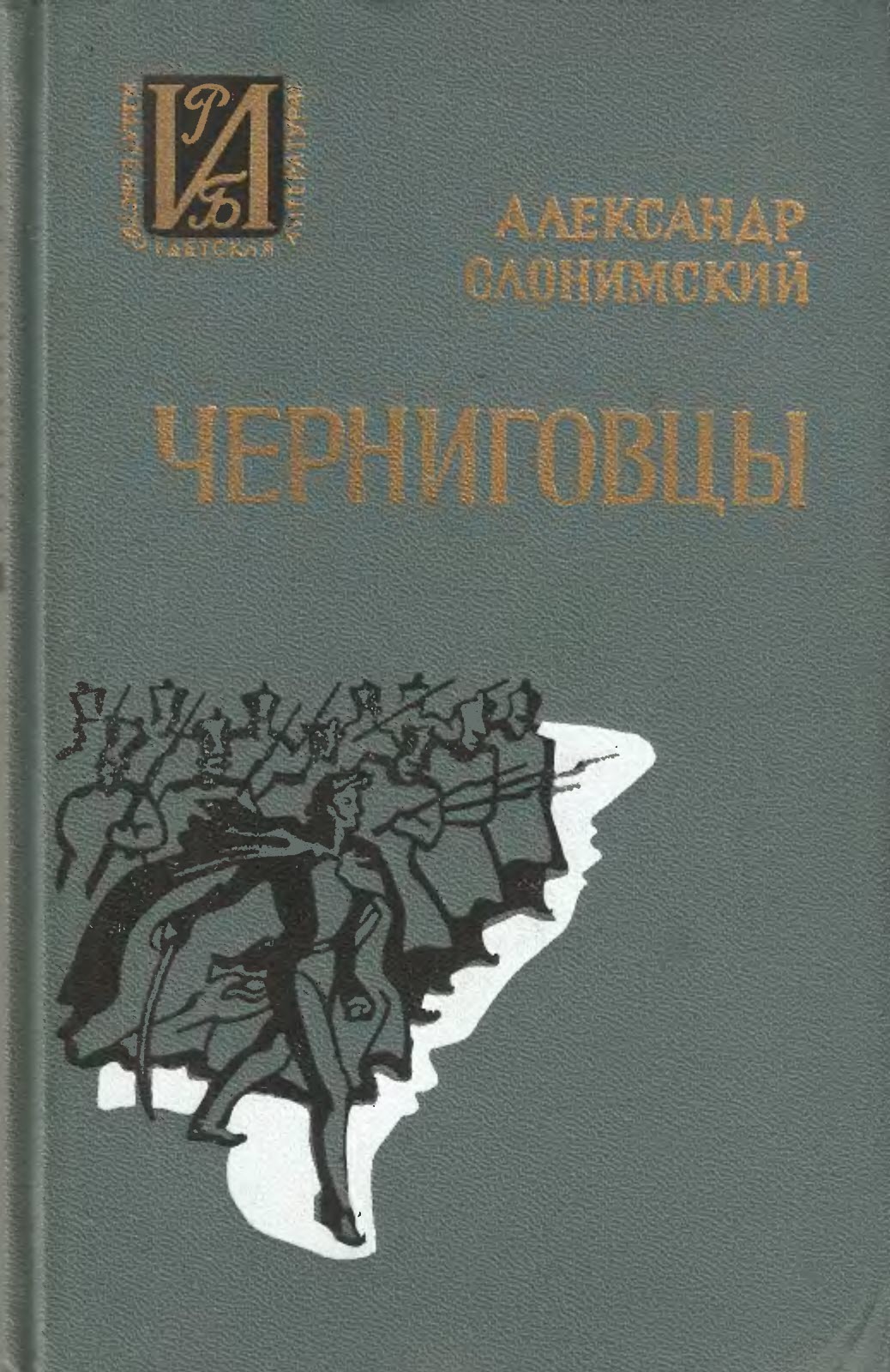посмеивается про себя этот небольшого роста мужчина в военной шинели без петличек. А Шерстнев вспоминал Леночкины поучения: «Он тебе отомстит».
На аэродроме его встречали товарищи. Красивый блондин первым подбежал к нему.
— Герою переднего края привет! Наконец-то!
Он, как отличный термометр, показывал всегда температуру отношения к человеку.
Шерстнев почувствовал, что его здесь действительно ждут и любят.
Рыжий Левин, пожав ему руку, говорил:
— Вас очень не хватало здесь. Мы уже знаем: вы с новым краном. Основная идея у нас совпадает с вашей, начальник наш очень ждет вас. Прекрасный товарищ. Вы с ним сдружитесь. Он во многом на вас похож.
Из всей группы работников особенно поразил Шерстнева тихий, неразговорчивый человек, совсем на него не похожий. Этот человек составлял проект крана в Ленинграде в первые блокадные месяцы. Силы его истощались в голоде и холоде, и он, когда выполнял свой проект, старался не делать лишних движений. Он точно и ясно выразил ту же мысль, что у Шерстнева. Их проекты взаимно дополняли друг друга.
XIII
Движения бойцов и командиров стали четкими, даже щегольскими в своей отчетливости, каждое движение должно было приближать и приближало желанный миг, когда повиснет мост над бурливой и быстрой речкой.
Сложенные в точном и прочном сочетании рамы, как широкоплечие, желтоватые великаны, выросли до необходимого уровня.
Паровоз двинулся, толкая платформу к самому краю железнодорожного пути.
Металлическая стрела, уверенно выдвинувшись, как длинная могучая рука, подхватила ферму с легкостью, с какой человек поднимает щенка за загривок, и потянула вперед и вверх.
Стрела, как живая, осторожно опускала ферму на опоры, и в этом движении виделись нежность и твердость любящей руки.
Когда пошла вперед и вверх вторая ферма, самая длинная и тяжелая, по ней, еще движущейся, пробирался маленький человек в синем комбинезоне.
Казалось — ничего не стоит ему сорваться на камни и бревна с высоты, которая представлялась снизу огромной.
— Кто это? — спросил один из молодых, недавно прибывших командиров.
— Шерстнев, — отвечал, оглянувшись, командир батальона, накрепко запакованный в серую шинель. — Инженер Шерстнев.
Он впервые видел действие нового крана. Он был поражен. Техническое чудо совершалось воочию. Мощность, простота, быстрота — все изумляло его, и он вспоминал ночь у речушки, когда этот взлетевший сейчас наверх человек совершил такой резкий перелом в работе батальона. Теперь тяжеловес сам был командиром батальона. Фамилия «Шерстнев» говорила ему очень много.
Когда двинулся первый состав по мосту, Шерстнев уже был в десяти километрах отсюда, и знакомое, тысячу раз виденное зрелище разрушений открылось перед ним с высокого берега.
Часто вспоминалось странное ощущение, какое испытал он в первый день войны, когда мысль о том, что созидание здесь преступно, потрясла его. Созидание победило. Созидание неудержимо отвоевывало мир.
Командир бригады, толстый полковник, звучным голосом любящего жизнь человека докладывал генералу проект восстановления моста. Срок — полтора суток. При этом полковник взглянул на командира батальона. Тот отозвался одним только словом:
— Точно.
Шерстнев пошел обратно по путям. Новый кран уже не вполне удовлетворял его. Применять его можно было не везде, не всегда, были серьезные недостатки. Конечно, даже маленькое новшество требует громадных усилий, — но ведь неограниченны возможности человека…
В небе ни одной звезды. Они изгнаны солнцем. Бледно-голубой, лохматый, в разорванных облаках свод скрыл их от взоров. Но оно есть, оно живет, небо его юности, за этим принявшим свою дневную окраску воздухом светят горячие звезды.
Это небо зовет к новому и новому движению, к новым и новым усилиям. Оно обещает необычайные разгадки впереди, в том будущем, которое кровью, мужеством, упорством и огромным талантом народа вырвано у врага.
1945
Завтра
Из записок старого человека
I
Как-то меня спросили, какое у меня было первое в жизни политическое впечатление. Именно — политическое. То есть такое, которое впервые столкнуло меня с общественно-политической жизнью страны. И память тотчас же воскресила давний, из раннего детства, эпизод.
Мне было тогда лет, наверное, семь или восемь. Со старшим своим братом шел я по дальней линии Васильевского острова ко взморью. Воскресная прогулка. Мы повернули к Гавани. Слева, вдоль тротуара, потянулся грязно-коричневый невысокий забор. По ту сторону ряд желто-зеленых, тускло-синих, выцветших, облупившихся, с сырыми пятнами на фасадах, низеньких, неказистых домишек то и дело прерывался двориками, ломаными, некрашеными оградами, проулочками, уходящими в незастроенные пустыри.
Так мы шли. И вот впереди, там, где узкая улочка утыкалась, расширяясь, в нечто вроде площади, а может быть просто в поле, я увидел толпу, а над ней человек, взобравшись на возвышение или поднятый на плечи, размахивал шапкой и что-то кричал.
Мы остановились, и в это время позади послышался топот копыт. Брат схватил меня на руки (он был старше меня на девять лет), перебросил через забор, сам перелез вслед за мной, и мы затаились на обширном дворе, в глубине которого стояло нежилое строение — сарай или амбар. Снега не помню. Не зима.
Сквозь щели в заборе я смотрел на несущихся по улице больших (мне казалось — огромных) лошадей. Видны были ляжки в синих штанах с кроваво-красными полосами и высокие сапоги всадников. Какие-то половинки людей. Интересно, какие у них головы и есть ли они. Но брат прижимал меня к земле, не давая встать!
— Тшшш…
Всадники промчались, и оттуда, куда они проскакали, донеслись вопли, крики, свист. Мгновенно возникший разноголосый шум постепенно удалялся и сменился наконец тишиной.
Брат приподнялся, заглянул через забор, перебрался со мной обратно на улицу и заторопился домой. Домой, а не к морю. Он тащил меня за руку, и я еле поспевал за ним.
— Это были казаки! — шепнул он мне.
Что говорить! Казаки в Петербурге — это страшно, это те самые, которые налетали на людей, топтали, хлестали нагайками. О них узнавали чуть ли не с пеленок. Значит, вот это они и были? Так как же брат не дал их разглядеть как следует? Когда еще их опять увидишь? И, значит, эти полосы на штанах и есть лампасы? Лампасы, пампасы, компрачикосы… Таинственные, загадочные слова.
Уже не было ни казаков, ни городовых. Куда-то их всех вымело вместе с толпой и оратором. Ничто нам больше не угрожало. Но брат тащил меня домой. Я упирался, а он тянул и тянул. Не только с досадой, но с какой-то даже злобой. Может быть, ему хотелось побежать, а я мешал ему.
Под белым шаром аптеки, у окна, в котором топырились большие, толстые бутыли с сулемой, загородила нам путь кучка людей, разгоряченных, встрепанных, в