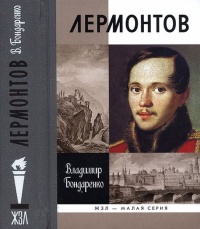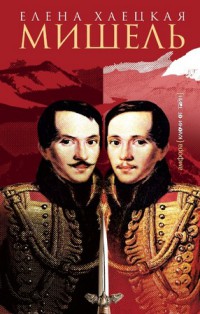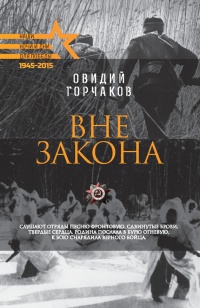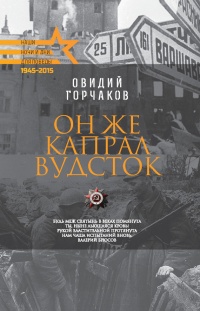И впервые подумал он тогда: а не была Шарон феей Морганой, существующей только в грезах?
Он оглядел погруженное в ночной мрак днепровское побережье с почти растаявшей розовой, как сукровица, полоской в закатной стороне, огни, огни на бивуаках и громаду кремля под боком, вспомнил о Готфриде фон Ливене,[120]умиравшем на телеге под его плащом. И снова и окончательно решил: нет, жизнь все-таки дьявольски хороша!.. Потрогал на груди талисман. В памяти сразу как живая всплыла сонная Наташа в постели, в теплом, колеблющемся свете догорающей свечи. «Что это у тебя, ладо мое?..» И светлокудрые сыновья — его продолжение, три русла его будущего за порогом собственного его существования, вдруг притиснулись к нему из тьмы смоленской ночи, все с голубыми глазами, кроме разноглазого Вильки, которому, Бог ты мой, скоро уже будет семнадцать, столько, сколько было ему вот в этом самом роковом месте на земном шаре, на берегу Днепра… А как бы вас всех хотела увидеть и обнять моя самая лучшая на свете мама с гривой пепельных, теперь уже, верно, совсем седых волос… Какую бы встречу она устроила нам в нашем маленьком домике в Абердине!..
Только одной Шарон не нашлось бы места в этом домике во время этой встречи…
В растрепанных чувствах подошел к кострам ротмистр Лермонт.
От костров заманчиво пахнуло жареной рыбой, выловленной в Днепре. Аж слюнки потекли по защечницам, между языком и нёбом. Словно повеяло запахом родного очага, — мать всегда нажимала на дешевую рыбешку. Джорди сам ее нередко ловил с рыбаками Абердина. Он ощутил вдруг невероятный голод и одновременно необыкновенный прилив жизненных сил. Шел к костру, широко улыбаясь огню, стылой сентябрьской ночи, всей своей оставшейся жизни.
Он еще поживет. Что такое тридцать семь лет для мужчины? Самый расцвет. Лермонт вдвое или втрое сильнее того мальчишки, что учился маршировать и владеть оружием вот на этом самом поле у стен Смоленска двадцать лет тому назад. Плечи раздались неимоверно, но он еще тонок в поясе. Однажды, напружинив мышцы груди и плеч, разорвал кольчугу. Подковы запросто гнет, и клеймор в обеих руках или в любой из рук летает, словно легкая сабелька, а двадцать лет назад, если признаться честно, вовсе не легко было ему орудовать клеймором.
Да, он возмужал, посуровел. Светлые кудри до плеч развевались и поредели, поблекли, став светлее сильно загорелого безбородого лица, покрытого, как и полагается воину, рубцами и шрамами. За двадцать военных лет — двадцать пять боевых ранений. Только за последнюю зиму засеребрился в волосах иней первой седины. Брови и ресницы все еще темные — верный признак породы. Взгляд стал властным, бесстрашным и еще более тяжелым и сумеречным. На переносице залегла глубокая складка. И усы давно появились, тоже темные, густые. Кафтан, сапоги добротные, без щегольства, оружие — самое что ни на есть надежное. И еще перемена: за два десятка лет езды в седле выработалась в нем походка настоящего рейтара, конника.
— Милости прошу к нашему шалашу, ротмистр, свежей рыбки отведать, — позвал прапорщик Мартынов — его ученик из боярских детей. — Весь день-деньской на ногах — чай, проголодались. На березовых дровах, Юрий Андреевич, рыбка самая скусная. Бредни сварганили, судаков наловили, налимов, карасей, шелесперов… Завтра в бой, а по сытому брюху хоть обухом бей…
В деревянном ведре шевелил жабрами, отливая в свете костра перламутром, днепровский судачок. Mother of pearl — вспомнил он английское название перламутра. Русское слово явно от немецкого Perlmutter, что значит «мать жемчуга». Красиво придумано. Лермонт частенько задумывался над происхождением слов в разных языках…
Кто-то шагнул из ночного мрака к Лермонту. При багровом свете костра он узнал Дугласа. Седовласый шкот впился в него своими острыми глазами. Лермонт и днем повил на себе его пристальные взгляды.
— Побереги себя завтра в бою, ротмистр! Мне не нравится твое лицо.
У Лермонта шевельнулись волосы на затылке.
— Чему быть, того не миновать, — тихо проронил он, пытаясь отогнать леденящую сердце жуть. А все-таки… где-то читал он в ученой книжке о fades Hyppocraticos — «лице смерти».
Его отец, капитан Лермонт, не верил во всякую чертовщину, а он, ротмистр Лермонт, и подавно не верит. К дьяволу твои пророчества, Дуглас!
Старый ведун-чернокнижник молча отступил во мрак, исчез.
По лагерю меж костров размашисто шагал с есаулами воевода Шеин. Высокая соболья шапка, полы собольей шубы, отороченной жемчугом, бьют по сафьянным сапогам, бряцает оружие. На груди вспыхивает золотом большой крест.
— А, ротмистр Лермонт! — прогудел он. Ротмистр поднялся, отряхивая пальцы от клейкой рыбьей чешуи, дожевывая жареного судака.
— Не хотите ли, милорд, рыбки откушать?
— Спасибо! Рыбки не хочу, — отвечал Шеин, вельми преславный воевода, — а желаю я, Егорий Андреевич, по древнему нашему русскому обычаю побрататься с тобой перед смертным боем. — Он перекрестился и обнял Лермонта. — Двадцать лет я тебя знаю. Был я у тебя заместо крестного отца под крепостью Белой, до коей отсюда рукой подать. Видать, сам Бог свел нас на ратном поле. Двадцать лет ты честно служил Руси великой, был верен присяге, а завтра утром твоей коннице снова предстоит жаркий бой. От твоих рейтаров зависит изначальный успех приступа… Верю — ты возьмешь город на саблю! Теперь, ротмистр Лермонт, ты мой названый брат… Знаю, знаю я тебе цену — за двадцать лет не научился ты, живя среди волков, по-волчьи выть, так и не мог перемочь свою прямоту, не покривил душой. Ступай за мной, брат, мы обойдем лагерь…
Отойдя от почтительно взиравших на него рейтаров, повернулся к Лермонту и негромко сказал ротмистру:
— Сдюжишь завтра, достанем Смоленск — быть тебе, брат, полковником Московского рейтарского. А пока принимай полк временно — многоболезненного Роппа я отправил в Москву. Совсем развалился старик, одряхлел. Сам, кстати, на тебя показал как на замену себе. Смоленская крепость — зело жесткий орех, не по зубам ему. На тебя вся надежда. Только вот что: Святейший велел тебе передать, чтобы бросил ты челобитные писать — не мешайся, брат, в государевы дела. И мой тебе совет: каждый сверчок знай свой шесток!
Шеин порывисто обнял ротмистра правой рукой, крепко стиснув плечо:
— Спасибо тебе, сын мой, за то, что подавил ты смуту в шквадронах. Иначе из-за предательства Черкасов совсем туго пришлось бы мне, хоть, к черту, осаду снимай!..
Воевода имел в виду прежде всего опасное брожение в рейтарском полку: получив приказ о новом решительном приступе на смоленскую крепость, рейтары заявили, что подчинятся приказу, только если им выплатят полугодовое жалованье, задержанное Трубецким в Москве. Наемники по опыту знали, что подобное требование всего лучше предъявлять в канун наступления. Но у Шеина денег не было, — он давно раздал все свои собственные деньги, надеясь возместить их, когда наконец раскошелится московский приказ. Лермонт, негодуя на своих рейтаров и сгорая от стыда за них, пожертвовал им все, что оставалось у него из трофеев, и тем спас положение — рейтары ворча согласились пойти на приступ. Черкасами же главный воевода называл малороссийских дворян, под покровом ночи сбежавших со своими полками из стана по той причине, что на их поместья напали крымцы, подговоренные ляхами, и эти поместья надо было, по их мнению, защищать в первую голову!