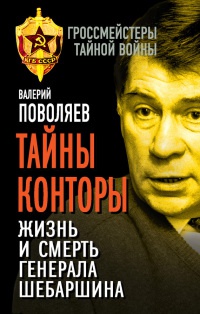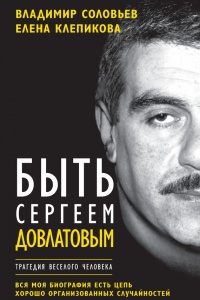Эй, вы поля, зеленые поля!Красна кавалерия садится на коня!И тут в коридоре появилась мама. Вернувшаяся с работы, она увидела всю эту «картину маслом» и обомлела.
– Это кто? – с интересом дернул полковник папу за руку.
– Это жена моя, – на голубом глазу ответил отец.
– А он тогда кто? – совсем уж растерялся тот и недоуменно глянул на Анджея.
– Хех, дак это и его жена тоже! – хихикая, папа махнул рукой, мол, нормально все, ты не обращай внимания.
Но мама обрушилась по-родительски сурово:
– Что это еще такое вы тут устроили?
– Нэвэчка, мы присели… – оправдываясь, Анджей поспешил скрыться с глаз долой.
– Валера… – Она серьезно и с мольбой смотрела на отца.
Папа ретировался вслед за Анджеем на балкон. Закурили. Бутылку убрали. Питие пришлось свернуть. А потом папа уехал в Одессу. Аня разыскала его, привезла назад.
Но он не всегда стремился к Ане домой. К таблеткам отец не вернулся, а запои все же случались:
– Я дитя улицы, – заявлял, играючи, и уходил.
Шел к бродягам к «Лукоморью», так они прозвали свое козырное местечко встреч.
Аня относилась к срывам папы легче, чем мама. Иронически. В ней не было тяжести. И это помогало мне, сглаживало тревогу. Но некоторые поступки я не могла себе объяснить: она записывала пьяного отца на диктофон и фотографировала.
– Пошли папана твоего покажу. Как лежит там гордо, – звала она, а я всячески отнекивалась. Слишком тяжело это видеть, когда не можешь помочь. Больно.
Она протягивала альбом. Листая страницы, с озорством показывала на фотографии и улыбалась:
– Гляди, какой туз лежит! А какой пупок? Красавчик!
У меня горели уши. Хотелось чем-то прикрыть папу, спрятать, уничтожить эти снимки. В свои пятнадцать сказать, что мне стыдно, я побоялась.
Но папа возвращался. Становился мудрым, степенным, размеренным. Начиналась работа.
Композитор Игорь Матета свел его со своим портным из театра «Сац». У папы появился черный смокинг.
Девяностые… Словно само время было для Валерия Ободзинского: на Большой Переяславской оборвали телефоны. Звонили, что-то предлагали, просили его поучаствовать. Все его разрывали. Когда предложили купить для папы квартиру, Аня жестко встала на позицию: квартиру артисту нельзя.
– Всех отправляйте ко мне и ни с кем не разговаривайте, – говорила она, желая все дела вести самостоятельно.
Я беспрекословно отправляла и не разговаривала. Я хотела, чтобы папа поправился. Стал таким же улыбчивым, живым, каким я увидела его, когда родители поженились во второй раз.
Но того эффекта, который ждала, не выходило. Папа не становился молодым, деятельным, стремящимся к сцене. Он словно жил в каком-то другом мире. Не в нашем суетном, но тихом, уединенном, где, казалось, даже времени не существовало. Он говорил о доме, о природе. Тянулся к простым вещам: гулять с собакой, медленно похаживая по двору, смотреть на дождинки, подставляя ладони, ездить с Димой Галицким и его женой Ирочкой на «оке» по городу.
А еще он заходил в храм. Садился на лавочку и подолгу сидел в задумчивости. И у меня мелькнуло: быть может, все эти записи и концерты он делает только для того, чтобы нам было приятно?..
– Валера – для меня штучный товар, – говорила Аня, вспоминая, как работала с Борисом Рубашкиным, выделяя папу.
Папа отмахивался: Кормчим он уже был. А потому, когда Леня Зайцев предложил ему четыре тысячи долларов за песню в ночном клубе, отказался не раздумывая: