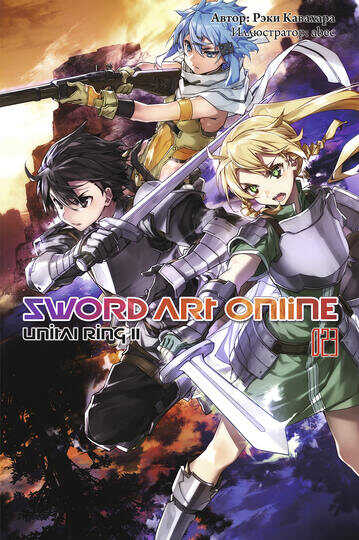должным образом меняться в ответ. Пужей махала рукой, стоя в тени галереи Польери. Птей боялся девушек, а Нейбену они нравились, он наслаждался их обществом и охотно вступал в игры, полные восторженных оскорблений и фривольной, притворной враждебности. Он считал, что теперь понимает женщин. Пужей была миниатюрной, все еще с мальчишеской фигурой, с бледной кожей – рожденная зимой аянни из Бедендерея, где в самые сильные холода замерзал даже воздух. Этот варварский акцент, эти континентальные манеры; и все равно Нейбен частенько ловил себя на том, что думает о ее плоских грудях с крупными сосками, которые так и хочется потрогать большими пальцами. Перед тем как попасть в Дом многообразия, он даже не задумывался о том, что здесь будут дети из других краев, кроме Ктарисфея и соседних архипелагов. Дети – девушки! – с большого полярного континента. Грубиянки, которые любили сквернословить и не стеснялись путать мальчишечьи имена.
– Пужей! Куда ты собралась?
– Хочу нырнуть.
– К пальпам?
– Не-а, просто окунуться.
Когда Пужей подняла руки и нырнула – неуклюже, как и полагается бедендерейской сухопутной жительнице, – ее грудь напряглась, и Нейбен ощутил быстрое, приятное набухание в паху. Вода скрыла перемену. Солнечная рябь помогла сохранить все в тайне. Потом он почувствовал, как по телу прошла волна дрожи, и нырнул – глубже, еще глубже. Он чуть не выпустил весь воздух из легких, когда угодил в объятия ледяной воды; потом увидел, как Пужей – в облегающих шортиках для плавания ее задница выглядела весьма сильной, мускулистой – повернулась, улыбнулась и, выпустив струйку пузырьков из носа, взмахом руки поманила за собой, вниз. Нейбен поплыл вслед за уходящими в глубину ступеньками. Перед ним распахнулась зелень, бездонный изумруд за противоскреевыми сетями – там, где безграничное море обновляло воды Марциального бассейна. Между бледно-красным телом Пужей и темно-зелеными просторами колыхались мерцающие завесы пальпов.
«Никто их не создал, никто их не породил, они были здесь всегда». За утверждением детсадовской простоты стояли десять тысяч лет теологических, биологических и ксенологических изысканий. Нейбен – как и весь его народ – всегда знал свое особое место; они были чужаками в этом мире, плодом единения звездной спермы и океанской планетарной утробы, в которую упало семя разумной жизни. Двадцать миллионов капель жизнетворящего семени добрались до суши и породили человечество; остальные уплыли в открытое море, повстречались с пальпами, которые были старше самой вечности, унюхали и возлюбили их. Итак, Нейбен повернулся и ловким ужом проплыл мимо Пужей, такой забавной, игривой и смертоносной, как стрела в сердце, – проплыл прямо к пальпам, извернувшись так, чтобы она лишь мельком увидела еще одного жизнетворящего ужа у него в паху. Занавес из живого желе всколыхнулся и распался на отдельных существ. Скользкое, холодное, трепещущее желе коснулось плоти, разгоряченной от желания. Нейбена сотрясала дрожь, то мелкая, то крупная; он чувствовал одновременно отвращение и возбуждение, которое было превыше секса. Кожу покалывало и пощипывало от воды, в ней ощущался привкус соли, страха и похоти – древней как сама жизнь, обескураживающей, как первый в жизни утренний стояк. Вопреки здравому смыслу, вопреки рассудку, вопреки накопленной за три миллиона лет генетической мудрости, Нейбен воспользовался одним из трюков пастыря Эшби и открыл рот. Вдохнул. Захлебнулся, поперхнулся, а затем почувствовал, как желеобразный, ужеподобный отросток протискивается в гортань: миг удушья – и пальпы достигли легких. Он вдохнул зеленую, соленую воду. Когда щупальца деликатно распутали свои внешние покровы из нанотрубок и проникли в альвеолы, бронхи, кровоток, он преобразился. Повинуясь обонятельным стимулам, воспоминания всколыхнулись, изменились, и одновременно возникли новый голос, новое видение, новый способ интерпретации этих воспоминаний и переживаний. Нейбен поплыл вниз, вдыхая воду памяти, трансформируясь с каждым взмахом рук. Там, внизу, далеко под ним, кто-то плыл вверх не сквозь воду, а сквозь двенадцать лет жизни. Новая самость.
* * *
Три часа утра. Арочное окно кельи – словно картина в раме: Пужей сидит, подтянув колени к подбородку. Маленькая, еще не развитая грудь; сильный, мальчишеский подбородок; водопад волос будто тень на сиреневом фоне. Она смеялась, запрокинув голову. Та первая секунда их встречи врезалась в память Нейбена до последнего штриха, словно бумажный силуэт, вышедший из-под ножниц художника во время Осеннего солнцестояния, запечатлевший друга, родственника или врага. В нем впервые всколыхнулись плотские желания, в самости Птея проступили намеки на Нейбена, в тот момент еще незнакомого, а теперь изведанного вдоль и поперек.
Он удрал, едва смог. После того, как узнал, куда бросить сумку; после того, как разобрался с устройством древнего, булькающего гальюна; после того, как пастырь Эшби с улыбкой закрыла и благословила дверь кельи с деревянными стенами – его собственной кельи, спустя столько веков на волнах Тейского мирового океана все еще пахнущей только что срубленным деревом. Сезон фотосинтеза был коротким, поэтому леса Бедендерея росли быстро и яростно, прибавляя несколько метров каждый день. Неудивительно, что древесина все еще пахла свежестью и жизнью. После полуночной прогулки по вымощенным плиткой тропам, по деревянным лестницам, пахнущим сыростью крытым галереям и через внутренние дворы – над которыми тихонько колыхались четырехугольники ночной тьмы, пересеченной ярким шлейфом Анпринской миграции, – постоянно держась, как того требовала традиция, за колокольчик на цепочке, прицепленной к поясу пастыря; после заполнения бланков, фотографирования, регистрации и вот тебе пропуск это тату на тыльной стороне ладони твоя карта поверь она поможет а я твой пастырь и мы увидимся в Восточной трапезной за завтраком; после подъема по скользкому деревянному трапу с борта «Паруса радостного предвкушения» на пристань Дома многообразия, где вокруг светились зеленым биолампы, а в вышине сияли огромные фонари на башнях великого университета; когда он остался один в этом чужом новом мире, где ему предстояло стать восемью чужими новыми людьми: он удрал.
Пастырь Эшби сказала правду; татуировка, хитроумный узор из умных молекул и нанокрасок, была подключена к сети Дома многообразия и провела его по лабиринту спален и галерей, дортуаров для мальчиков и опочивален для девочек с помощью отвратительного, но простого трюка: она жалила ладонь с той стороны, куда следовало повернуть.
Кьятай. Друг, с которым Птея разлучило море. Единственный, кто его понимал – с того самого момента, когда они встретились за стенами школы и осознали, что оба отличаются от влюбленных в паруса и повернутых на рыбалке. Обоих интересовала география, они были влюблены в числа и упивались чудесами мира, а также других миров, которые – если верить городской сети – существовали где-то там. Они были мальчиками, смотрящими в небо.
Пока зудящая рука вела его – влево, вправо, вверх по винтовой лестнице под светлеющим небом, – Птей ощущал растущее беспокойство: он раньше не задумывался, узнает ли Кьятая?