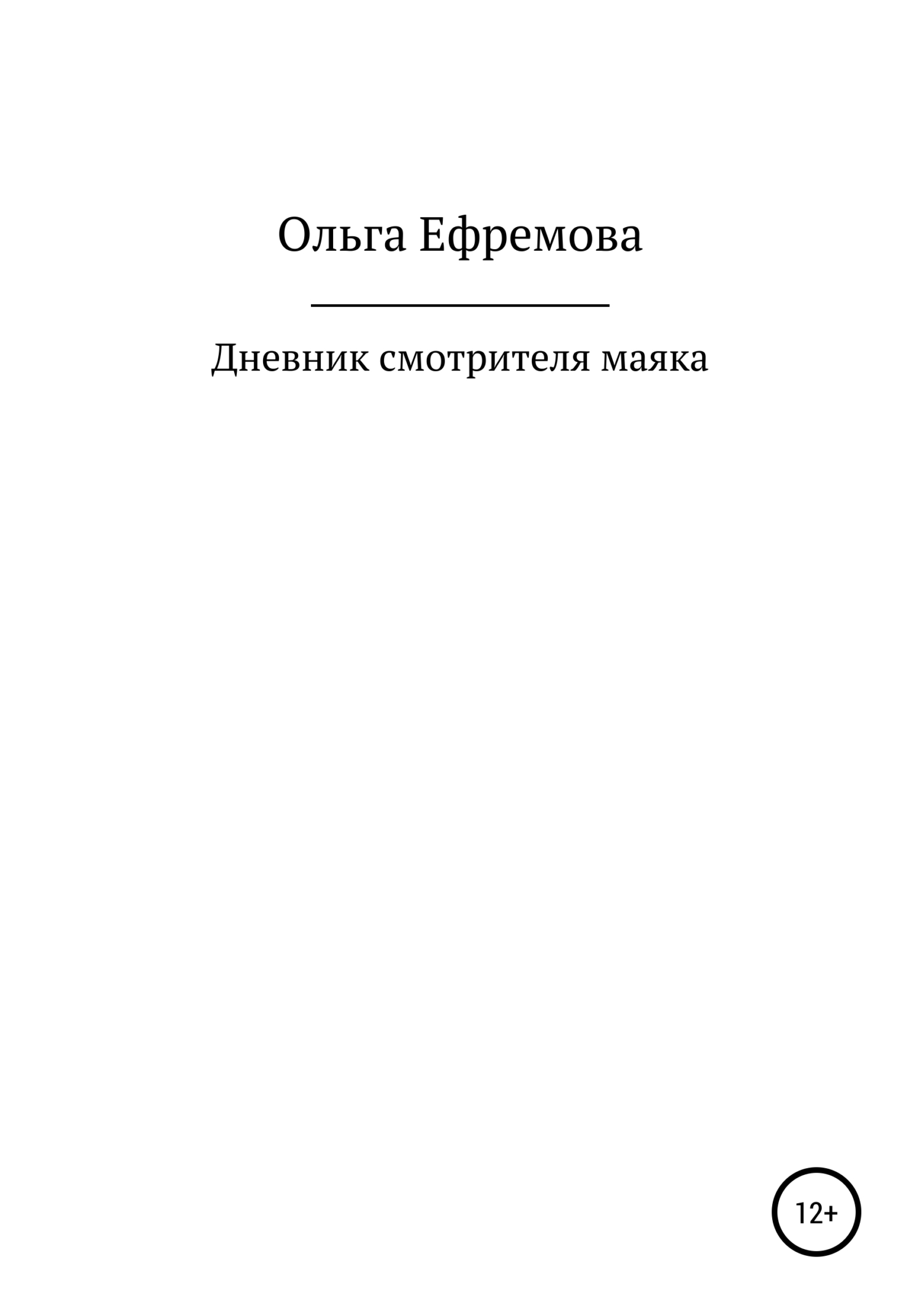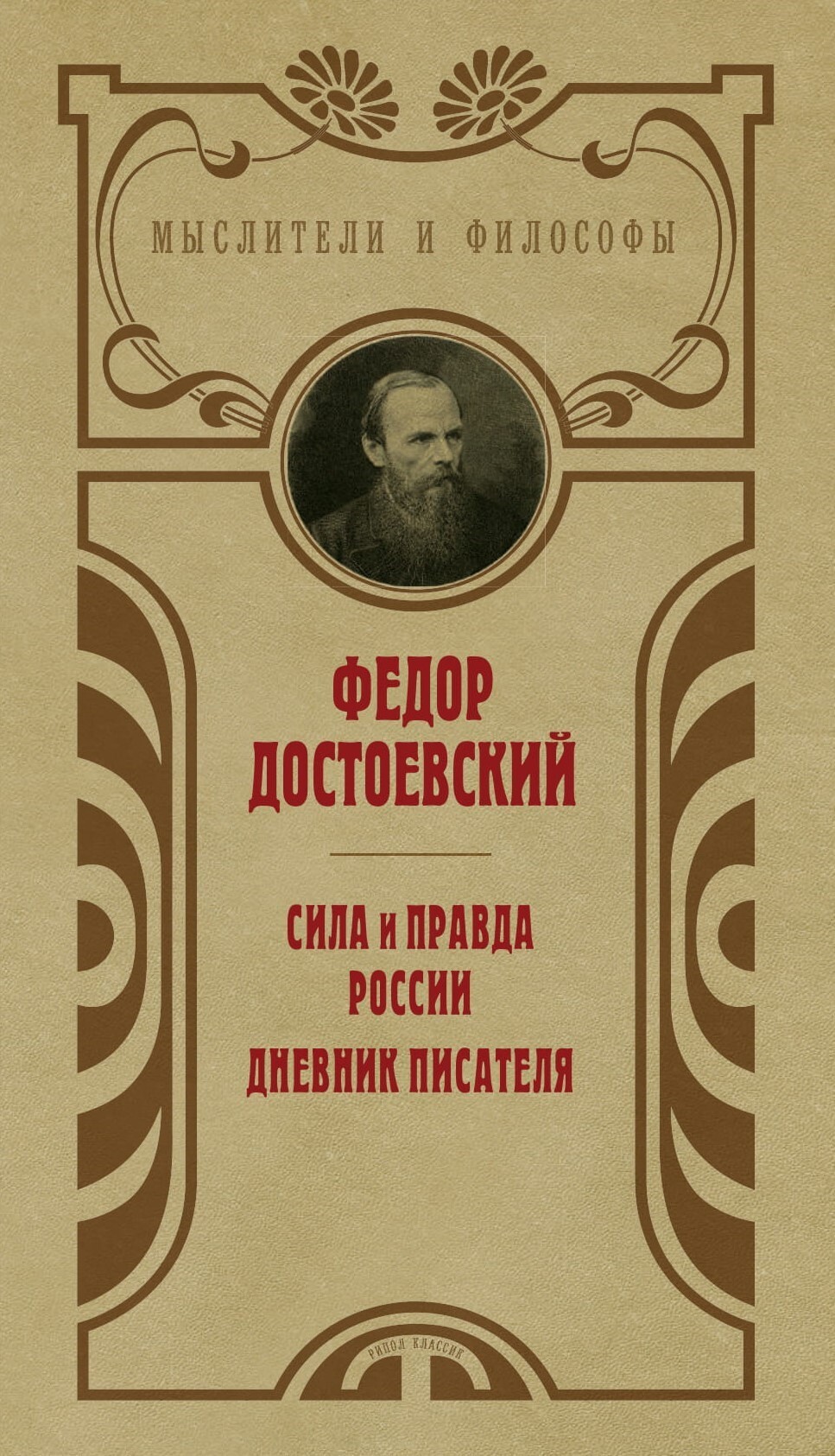ни к кому другому».
«Я и сама этого не хочу» – возразила я. Тогда он сказал: «Давай бросим сейчас мастерскую и проклятую лепку и пойдем отдохнем в соседней комнате».
Я быстро помогла ему накрыть работу мокрыми тряпками и радовалась, что он не заметил волнения, охватившего меня при его словах. Затем мы медленно пошли бок о бок в его комнату, находившуюся рядом с мастерской. Когда мы проходили через узкую дверь он молча обнял меня, а я, – я не могла иначе, – я повернула свое лицо к нему; и он поцеловал меня, голова у меня закружилась и, не говоря ни слова я упала в его объятия.
Я пришла домой позже обыкновенного, но, в сущности, я нисколько не боялась матери, я вся была охвачена огромной, тихой радостью и твердо решила всеми силами защищать свое юное счастье. Каждый человек, ведь, имеет право на счастье. Дома дверь мне никто не открыл. Значит мать ушла куда-то с моими братьями и сестрами, я села на ступени лестницы и погрузилась в мечты. Затем вернулась мать, она сделала кой-какие покупки и извинилась предо мной за то, что мне пришлось ждать под дверью. Вскоре я пошла спать, сказав, что устала, но на самом деле мне просто хотелось побыть одной и вспомнить еще раз все события сегодняшнего дня. На следующее утро я как можно раньше побежала в мастерскую. Будет ли он сегодня так же брюзжать и ругаться, как обыкновенно? (не на меня, а на глину, лопатки и пр., по утрам он всегда обрушивался на них).
Я позвонила и, как только он открыл дверь, я увидела веселое, превеселое лицо. Он притянул меня к себе, и поцеловал так, что у меня дух захватило. Затем он сказал, что мы уходим. Действительно, он был уже в шляпе и пальто, взял свою трость, очень красивую, японской работы, и вышел вместе со мной, заперев мастерскую и говоря: «Сегодня мы идем гулять в Грюневальд». Собственно говоря, в будни, насколько мне помнится, я еще ни разу не ходила гулять, и потому мне это по казалось чем-то недозволенным, но мы не могли долго это обсуждать, ведь в Берлине надо всегда торопиться; бегом на трамвай, затем на вокзал Гросе-Гершен, купить билеты; вверх по лестнице, поезд уже на перроне-и вот, наконец, мы сидим в купе второго класса, да при том еще одни. Когда мы отъехали от вокзала, он взял меня за руку и, посмотрев на меня с выражением задорного счастья на лице, спросил: «Ну, Франца, как ты себя чувствуешь?». Я должна была прижаться к нему головой, так как не могла смотреть ему в глаза: при этом мое короткое и весьма растрепанное маленькое индюшачье перо, которое я уже три года ношу на своей шляпке, попало ему в нос, так что он со смехом выпрямился: – «Эй, мой нос!» Я также не могла удержаться от смеха. Затем, он спросил, как я вчера добралась до дома. Я начала рассказывать: «было уже поздно, когда я ушла от Вас…». Тут он широко раскрыл глаза: «Что? от Вас? это мне нравится! Меня зовут Алоис, и я не хочу слышать этого, «Вас»!» – «Я сказала, что не знала, как правильно произносится его имя, но, что конечно, я давно знала, как его зовут.» – «Да, да, – сказал он вы, с севера Германии, все называетесь Фридрихами или Вильгельмами, поэтические имена у вас не встречаются, меня зовут Франц-Ксавер-Алоис Кварин, что хорошо это звучит?» «Как – спросила я, и Франц также?» – «А что, правда, давай возьмем из моего имени Франца, тогда мы Франц и Френца». Я заметила, что Франц мне легче выговаривать, Алоис у меня никак не выходит. Затем я должна была несколько раз проговорить это имя; но у меня никак не получалось, тогда он начал учить меня, как только я выговаривала слово «Алои», я должна была быстро втянуть язык обратно, как будто я его обожгла. Наконец-то, кое-как получилось и он сказал: «Bo имя святого Алоисия, который, вероятно, быль единственным святым из баварцев, ты в награду получаешь поцелуй». Но в эту минуту поезд остановился, и я не получила поцелуя, пока мы не поехали дальше. Затем, он некоторое время молчал и совершенно механически зажег себе сигару. Потом он стал говорить совершенно изменившимся голосом, причем он все время смотрел в облако от дыма своей сигары: «Как люди, однако, сходятся. Удивительно! Приезжает сначала в Дрезден, а затем в Берлин простой парень из Баварии, работающий подмастерьем-каменщиком, и пытается сделать все, чтобы стать образованным человеком. Он читает по ночам, все что только может достать, он не досыпает и надрывается, но упорно идет к своей цели; а затем с севера Берлина, является какая-то девушка, также желающая учиться, чтобы стать кем-то иным, чем ее родители, братья и сестры и именно эти два существа из 50-ти миллионов немцев встречают друг друга!» Я возразила: «Если один из них скульптор в Берлине, а другая-натурщица в том же городе, то это вовсе не так удивительно». – «Я не верю в случайности, – сказал он, все это было предопределено. Подумай, зачем я стал скульптором, а ты натурщицей? Для того, чтобы мы могли встретиться. Ведь, я мог бы остаться у своего хозяина в Реннебурге, а ты? – чем занимаются в Берлине бедные красивые девушки?» Я ответила, что мое лицо вовсе не так красиво, а сквозь плохо сидящую бедную одежду нельзя же разобрать, что у меня красивое тело. – «Это истинное счастье – сказал он, иначе ты не могла бы избежать своей судьбы. Не каждый может, как я, только по движениям рук понять, как сложен человек. Все, что люди пишут о миловидности в первую очередь, относится к правильному телосложению. Сейчас в Берлине даже преподают уроки «грации», но если ты неуклюж и тело твое непропорционально, то можно сколь угодно долго крутиться и вертеться перед зеркалом, но грации от этого не прибавится». На это я заметила чуть-чуть лукаво: «Итак, только мое телосложение». Он расхохотался. «Ну, ну, не только из-за телосложения, но и из-за твоего лица, я полюбил тебя с первого же взгляда». Что мне было ответить на это? Я молчала. Он продолжал: «ты не первая, которая нравится мне, но ты первая, у которой в глазах нет расчета, знаешь, другие смотрят на меня, и как будто сразу прикидывают: а есть ли у него деньги? И если есть, то как бы сделать так, чтобы ему понравиться? А ты смотришь на меня своими невинными