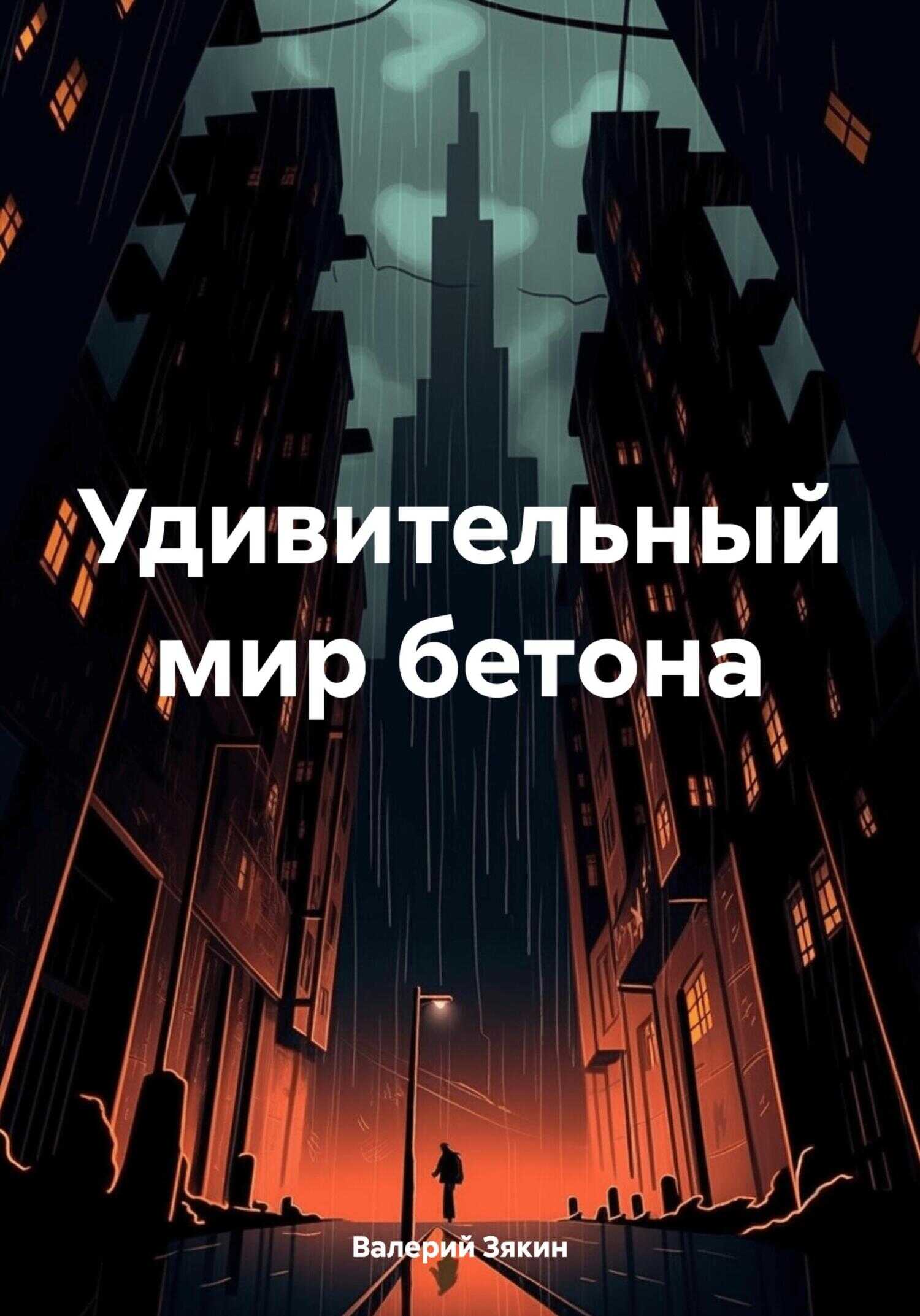опознавательный знак, призывающий кур нести яйца именно сюда, только в эти уютные гнезда и опорожнять себя лишь здесь и больше нигде.
Куры по методике бабы Фисы работали в поте лица, регулярно наполняли лунки яйцами, всякий раз оповещая хутор громким кудахтаньем о своей трудовой победе.
Баба Фиса, как бдительный контролер ОТК, мигом засекала победный крик, проворно выгребала яйцо из лунки и помещала в корзинку, где уже лежал товар, приготовленный для продажи.
Так что Валька и хотел бы уволочь какое-нибудь незасеченное яичко на пользу дела и вознесение своего голоса, только удавалось это ему чрезвычайно редко: баба Фиса хоть и подслеповатая была, но не глухая, слух у нее был в два раза вострее обычного: стоило только несушке закудахтать, оповещая мир об очередном своем успехе, как старая хозяйка, ворча ласково, повисала над ней.
Надо было что-то придумать, изобрести, в конце концов, иначе удачи не видать. Валька ломал-ломал голову и изобрел.
Так как гнезд было несколько, то хохлатки, естественно, не во все откладывали свой товар (вернее, не во все гнезда равномерно), да и баба Фиса не все гнезда проверяла, – обычно она спешила на куриный зов, впустую предпочитала не ходить, поскольку у нее не только глаза были больные, но и ноги. А с другой стороны, при всех, даже самых неблагоприятных условиях, – даже если хохлатки объявят всеобщую забастовку или вместо яиц решат нести пуговицы, – одно яйцо обязательно будет оставаться в гнезде… То самое, подсадное яйцо.
И Валька это дело в своих действиях учел. У бабушки из швейной подушечки, висевшей на стенке, вытащил иголку с пропущенной через ушко ниткой, чтобы опасный предмет не затерялся или случайно не всадился в задницу, и прокрался к дальнему гнезду.
Там, в мягкой лунке, красовалось всего одно яйцо. Валька вздохнул жалобно, вытащил яйцо и проткнул его иголкой с двух сторон, с носа и с задка, в отверстие загнал соломину и с большим наслаждением, как всякий подлинный артист, выдул содержимое.
Пустую скорлупу, – непомятую, целехонькую, легкую, как воздух, аккуратно вернул в лунку: курам ведь все равно на какое яйцо ориентироваться, пустое или полное.
Один раз у Вальки это прошло, второй раз прошло, а на третий баба Фиса обратила внимание на «непорядок в природе», ужаснулась:
– Это с какого же такого ляха куры начали нести пустые яйца? – прокричала громко. – Валька, ты где?
Ну будто Валька исполнял у кур роль петуха… Обостренно прочувствовав ситуацию, он понял, что наступает час расплаты, и поспешно спрятался на сеновале, с головой зарылся в старое, уже пахнущее лежалой прелью сено – у Седобородовых его сохранилось много, целая копна, – и там переждал артиллерийский налет.
И ничего, остался жив. Куриные яйца больше не трогал, поэтому у Федора Ивановича Шаляпина достойный соперник так и не появился. Из Вальки получился вполне приличный кавалерийский командир. Если Валька жив, то наверняка сейчас возглавляет где-нибудь в конном полку взвод. Либо бери выше – командует эскадроном… Хотя ни пехота, ни конники на передовой долго не живут, особенно командиры.
Весной Валька делался конопатым, как яичко, вытащенное из-под степной куропатки, и хуторские ребята дразнили его дружно, едва ли не в один голос: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой», – но завидев где-нибудь бабу Фису, немедленно затихали: бабуля в Большом Фоминском пользовалась авторитетом, не было человека, который мог бы безнаказанно отпустить в ее адрес шуточку.
Интересно, что там на хуторе сейчас творится, все ли живы? Линия фронта наверняка проходит рядом, и от многих домов, как пить дать, остались только разбитые окошки…
Тихонов глянул на часы: сколько там намотали на свою ось стрелки? Ему казалось, что времени с момента ухода группы прошло много, а оказалось – всего ничего, двадцать четыре минуты.
Он пристроил лист бумаги на полевую сумку и начал писать письмо. Последнее письмо в своей жизни.
Огрызок карандаша был мягкий, жирный, буквы, слова получались с дражементом, словно из-под печатной машины. «Мои дорогие», – написал он и задумался, поскреб тыльным концом карандаша висок – не знал, кто остался на хуторе, к кому обращаться и вообще, кто из родни живой, а кого уже нет… Война вообще могла оприходовать половину Большого Фоминского и оставить вместо домов могилы. Связи с хутором, увы, никакой.
Подумав немного, он оставил то обращение, которое написал, – «Мои дорогие», ведь лучше все равно не придумаешь…
Трудное это дело – заниматься «литературным творчеством»: и мозги в голове твердеют, и руки делаются, как крюки – карандаш начинает выскальзывать из пальцев, внезапно ставших негнущимися. Проще в разведку сходить и приволочь «языка», чем сочинить одно небольшое письмецо.
Где-то недалеко послышался треск мотоциклетного мотора и тут же угас, за пределами оврага творилась своя жизнь, опасная для Тихонова, происходили свои подвижки, перемещения, которые угадать было сложно, но ясно одно – немцы за своими убитыми вернутся обязательно, не оставят их валяться в поле, подступающему к оврагу, среди сохлых кустов, поэтому передышка может окончиться очень скоро.
Тихонов вновь погрузился в письмо, сообщил, что со старым аэродромом пришлось расстаться, в результате фрицевского нажима они отступили и очень скоро он может увидеть свою родную Волгу.
Он оторвался от бумаги, невольно вздохнул: на их аэродроме находилось в то тяжелое утро двадцать шесть самолетов. Налет немцев был внезапным – едва рассвело, появилась целая армада «юнкерсов», прозванных остроязыкими фронтовиками «лаптежниками», – прозвали их так за широко растопыренные тяжелые шасси, раскинутые, как громоздкие лапы по обе стороны крыльев, накрытые сверху округлыми железными получехлами, похожими на колпаки… «Юнкерсы» шли волнами – волн было четыре и каждая из них выплевывала на землю два десятка бомб.
В результате от аэродрома остались одни лохмотья: комья земли, перемешанные с рваными кусками дюраля, жести, бетона, колотым кирпичом и обрубками деревянных построек, вывернутыми с корнем тополями, которыми по всему периметру была обсажена территория воинской части, смятыми кустами, беспощадно изрубленными, разодранными на части останками истребителей, приготовившихся было к взлету, но опоздавших взлететь…
Из сорока летчиков, насчитывавшихся в полку, в живых остались только шестеро, из батальона аэродромного обслуживания – восемь человек: слишком неожиданной была атака немецких бомбардировшиков. Ободранные, запыленные, пропитанные пороховой копотью, наспех перемотанные бинтами, остатки авиационного полка отступили.
Немцы обошли аэродром стороной – знали, что летунов там было немного, одной бомбой можно было прикончить всех, посчитали, что вряд ли кто из них остался в живых и время решили не терять… Ну кто там может выжить? Какой-нибудь одноногий калека, оглушенный и ослепленный, который никогда уже не сумеет забраться в самолет, этот человек – уже не воин… И немцы, не задерживаясь, поспешно устремились на восток.
Остатки личного состава полка двинулись за немцами следом, – надо было выходить к своим, но через сутки в ночной