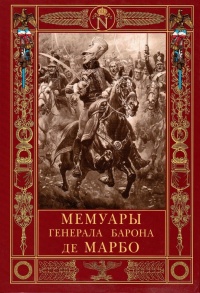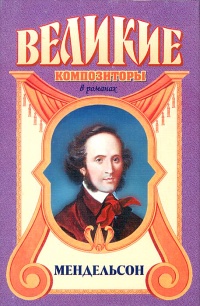отлучением от церкви, обещали доносчикам сохранить тайну исповеди, искушали менее податливых духовными благами, — короче говоря, предлагали хорошую цену за поклепы и доносы.
Малейшие слухи превращались в громы и молнии, которые по воскресеньям обрушивались с высоты церковной кафедры на ошеломленного грешника. «Увещевательные грамоты» открывали бесславный, но безопасный путь для негодяев, желавших свести счеты с теми, кому они завидовали, на кого держали зло или кому не хотели платить долга, и я полагаю, что этакие «увещевания» в любом другом краю Запугали бы людей. Но только не в Севеннах!
Грозят нашему севеннскому племени то снежные обвалы, то наводнения, живут они, уцепившись за горные склоны, бьются над полосками тощей земли, а она того и гляди убежит у землепашцев между пальцами: смывают ее ливни и ручьи Лозера… Нет, давным-давно сожрали бы нас дикие скалы, если б люди, живущие в наших долинах, не приходили к нам на помощь, когда виноградники начинали сползать к вздувшемуся горному потоку или когда в августе месяце у кого-нибудь в сосняке вспыхивал пожар. Бьют заморозки паши посевы, сушит их засуха, тают снега и насылают на них воду, сено быстро гниет, — словом сказать, не будь соседей, все погибло бы — один год у одних, другой — у других: ведь все против нас, горцев, — и погода, и каменистые наши поля по крутым скатам Севенн, да мы не сдаемся, стоим друг за друга.
Чего там! Говорить много мы о том не говорим, шуму не поднимаем, больше против шерстки готовы погладить, а на деле-то крепко друг друга любим — вот оно как! И пришла к нам братская любовь не только из-за жестоких гонений против нас, а вот словно с незапамятных времен узы родства соединяли наших предков, как уверяют старики.
А все же случилось черное предательство, и было это в воскресенье утром, в первый день месяца мая 1697 года…
Вся наша семья явилась в Пон-де-Растель на торжественную мессу: надо же было получить свидетельство о явке, его могли потребовать от каждого из нас, когда угодно и где угодно: на мосту, в винограднике, в школе, на дороге, даже в собственном нашем доме у очага. По виду мы как будто внимательно слушали обычное пустословие папистской проповеди, а на деле она сливалась для нас в однообразное рокотание и не мешала нам возноситься мыслями к господу нашему, минуя капеллана, и как же мы вздрогнули, когда с высоты кафедры разнеслось по церкви имя нашего отца:
— …Давид Шабру, из хутора Гравас, изобличенный в том, что укрывает некоего Симеона Тойра, по прозвищу Белоголовый, каковой служит проводником для закоренелых еретиков и переводит оных через границы королевства…
За сим последовали призывы сообщать о таких преступниках на духу, обещания выдать доносчикам награду чистоганом и свято сохранить тайну исповеди. Отцу же было сделано напоминание, о том единственном обстоятельстве) коим он может обелить себя, — сказано было, что его объявят невиновным, если он сообщит сведения, способствующие поимке нескольких еретиков, и, главное, если он для начала приведет солдат к тайнику, где укрывается вышеупомянутый Белоголовый.
Деревня Пон-де-Растель вытянулась в длину, как и все селения в севеннских долинах, — два ряда домов по обе стороны дороги, извивающейся вдоль реки; на одном конце — церковь, на другом — мост через Люрк, а немного поодаль, саженей на сто в сторону, у дороги на Шамбориго стоит одиноко на берегу реки наш хутор. Никогда еще мы не проходили так медленно по деревне; мои старшие братья Эли и Теодор впереди, словно герольды, я, точно паж, следовал за отцом и матерью, они же шли рука об руку, хотя эго у нас совсем не в обычае, шли так медленно, что улица казалась мне бесконечной, так же как и две шеренги людей, вышедших за ворота домов своих и застывших в безмолвии; гробовую тишину не нарушали даже крики животных, только запел петух — наверно в Доннареле, но этот хутор стоит в конце долины, можно сказать, под самой горой Виала, и там еще ничего не знали… Вечером в то воскресенье отец и мать впервые на моей памяти поссорились — мать стала упрашивать отца бежать в горы.
— Никто не может сказать обо мне ничего дурного, Элоди.
— Давид, зачем приносить себя в жертву? Ведь всегда найдется какой-нибудь Иуда.
— Я всем доверяю, жена, и Лартигам в первую голову.
Лартиги исстари были папистами, даже в те времена, когда гугеноты пользовались некоторыми привилегиями не к выгоде католиков; но вся деревня уважает Лартигов — ведь, если не считать несогласий с нами в делах веры, они люди хорошие и честные.
— Кто захочет собаку убить, скажет: «Она бешеная!» — упорствовала мать в своих предостережениях, но она не могла сломить решимость отца.
А наутро приехал аббат Шайла и расположился в нашей деревне, потребовав, чтобы согнали на работу окрестных каменщиков и землекопов, — он решил возвести укрепление вокруг дома, выбранного им для себя и своей свиты; глава католических миссионеров не смел со времени опасной встречи на Кан де л’Опитале вылезти за ограду своей резиденции без вооруженной охраны из драгун и солдат городского ополчения — они сопровождали его во всех поездках и роскошествовали за счет «новообращенных», к коим их ставили на постой. Отдав распоряжения насчет стола и прочих своих утех, аббат потребовал к себе мальчишку-певчего, своего любимца, и список жителей округи, дабы заняться чтением перед сном.
И вот во вторник утром явились к нам четверо — два драгуна и два солдата из ополчения города Конкуля; явились, как будто их назначили на прокорм в наш хутор. Они не спеша шли по дороге, остановились у Фон де Божу, напились там холодной ключевой воды, о коей слава доходит даже до Конкуля. Самый рослый из них — драгун в каске с цветком ромашки, заткнутым за ухо, — что-то крикнул по-немецки и ударил ногой в нашу дверь, только раз, но с такой силой, что под его сапожищем филенка треснула сверху донизу.
Отец сидел у окошка, точил о брусок косу; старшего брата Эли дома не случилось — он валил лес в горах; Теодор был в чердачной каморе, где мы держали шелковичных червей, — понес им туда листьев тутового дерева; меня мать мигом затолкала под стол.
Солдаты уселись на другом конце стола. Им подали и еду и питье, словно были они путники, что приходили в сумерки попросить приюта под нашей кровлей, — так бывало с тех пор, как сожгли харчевню «Большая сковорода»; мы всегда радушно принимали прохожих людей