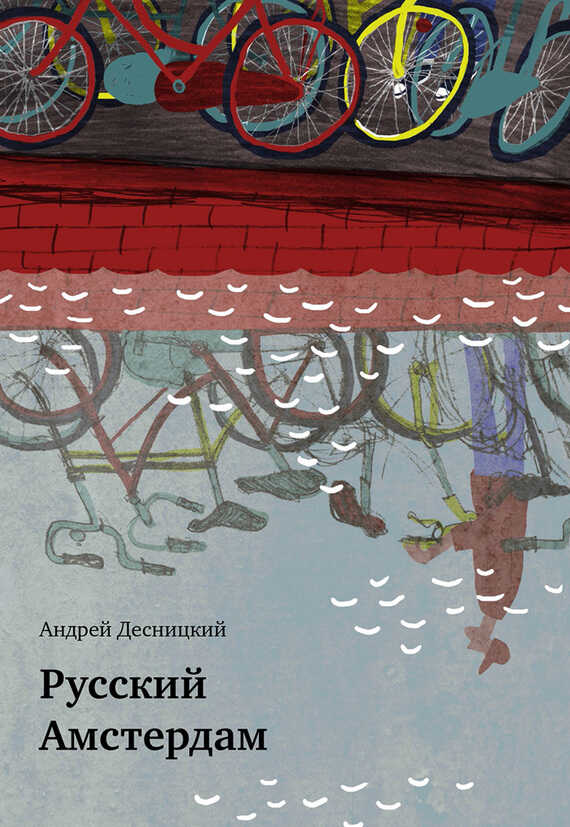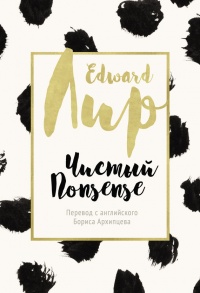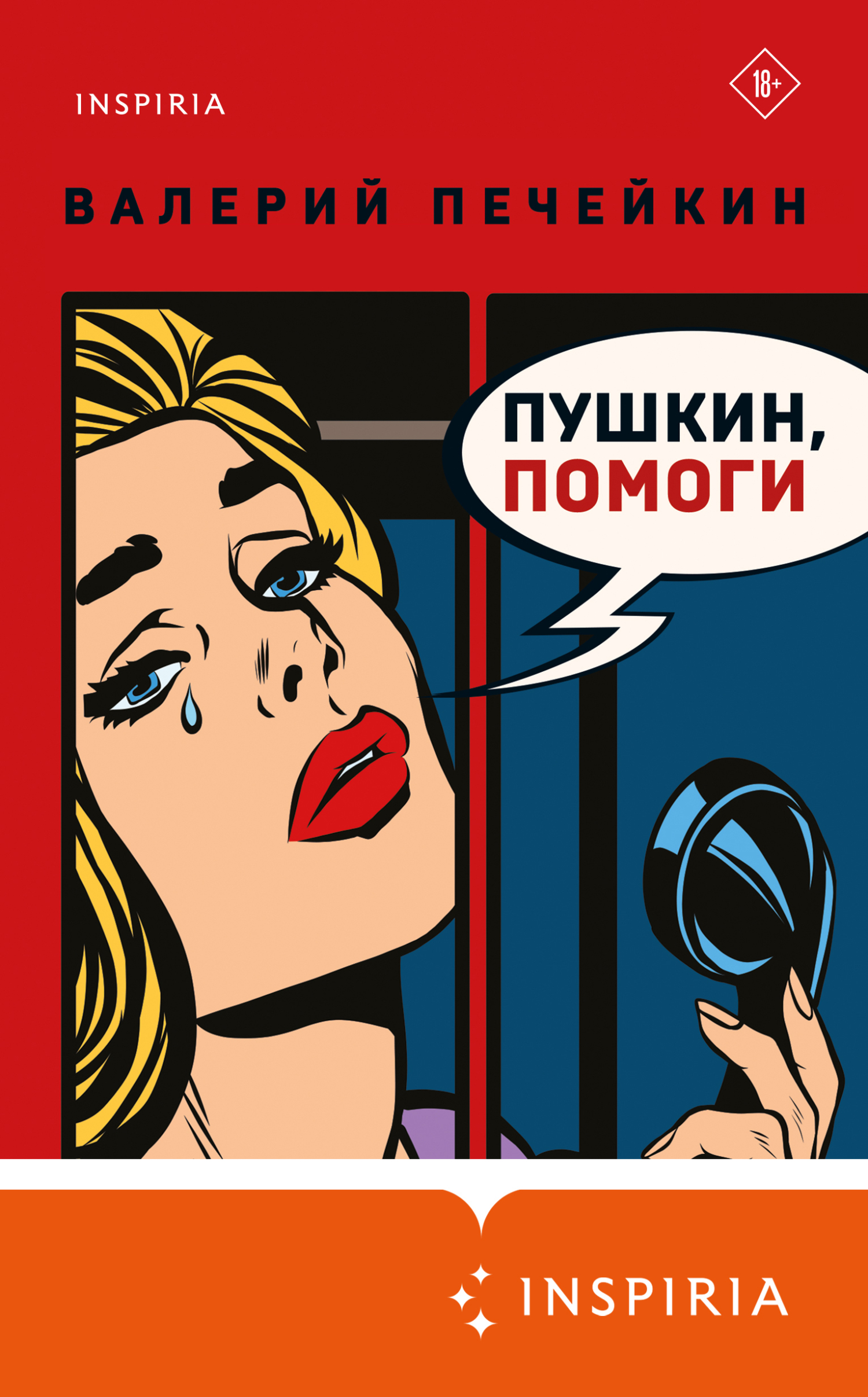вроде, а сама, хитруха, толмудит але ишшо ково там творит. А пошто нет? Кажное дыхание свого Создателя славит. У Федьки Ртищева тож собачёнка водилась, так она, сказывали, истинне крестилась и благословляла лапой двуперстно. Никоном насмешники кликали, ну да её хлебушком подманули мои добрые монаси и удавили пояском раскольшицу. А ишчо пошепчу тебе про тутошного Никитку-игумена. Ох, не люб до меня! Келейника мово, Шушеру, в келью почал не пушшать, токмо доможилка моя его не послушает и всяко-то около меня: оно и утешливо и душу теплит. А Никитка, он, неначе, с разуму отпятился: кажну-то ноченьку чертят малых тех ко мне напушшат. Они в уважении к нему, чорту большему, его, мне сказывали, сам сатана в зыбке нянчал.
Сугробный старец слушал сострадательно, как слушают лепет дитяти неразумного, даже переступил посошком, подвинулся к монаху. И оконца келий в тёмной стене монастырской, едва проявленные тощим свечным отстветом, вприщур глядели на них, как прислушивались.
– А ведь я досель патриарх российский, отец отцов и святитель крайнейший не токмо всему люду, а и ему, архимандритишке! – грозя пальцем, ворчал Никон, по привычке жамкая иссохшей крупнокостной пястью набалдашник берёзового посоха. – Ан неймётся Никитушке, посылат в полную луну их цельной стаей меня наведывать: вскочут и на полу усядутся рядком, на окошице примостятся, копытцами пощёлкивают, а ино на ложе каменном моём в ногах присуседятся. И крестом от них отмахивалси и кадилом густо дымил – не уходют! Токмо чихают и глазы лупастые кулачками мохнатыми трут. Ноченьку всюё этак-то посиживают. Ничё не пакостят, не шалуют. Из себя бравенькие, шорстка лоснится. И почё тако-то люб я имя?
Старец отнял голову с посошка, закивал, понимая.
– Полнолуние – ихнее времячко. Да и ты дитятем снобродным рос, так они тебя своим дедушком чтут. Небось хмельное с имя распивал, оно и привадил. А коей гурьбой оне? Числил?
– Дак кажну ночь шшитаю. Вточию тринадцать. Единожды токмо лишний с имя навялилси. – Никон примолк, пожевал губами, будто прикидывал – надо ли досказывать – решился и опасливо зашептал: – Тот, которай лишняй с имя был, ох страсть как большо-ой! С коломенску версту! Сам лохматай, рога ухватом, да я его… – Никон победно хихикнул. – Враз обличил. Эт-ж Никитка, игумен тутошнай, которай вконец умом обносилси и в чорта перекинулси, а как обличил его, то и рыкнул и брадой заметлил, а она совьись, да ему промеж ног, так он на ей, яко на помеле, в оконце уфуркнул… Не-е, вино с имя не пью, нету-ка вина. Алексеюшко на мою нищету присылал давность поманеньку в Ферапонтов монастырёк, да помёр, глупой, а нонешный Федорка ску-уп, ничо-то не шлёт сюды, в Кириллов, да оно и разворует братия. Тако-што гостюшки мои беспятые однуё водичку из бадейки сосут: губы выпятят в тросточку и тя-янут, тя-янут, быват поперхнутся, ежели крестом осенюсь. Ну да попривыкнул к имя, и ничо-о. Тихо гостюют. Вечор шептались, мол, архимандрит наш женится – игуменью берёт.
Старец хмыкнул и, завесив глаза снежными застругами бровей, хмуро спытал:
– Староотеческим крестом спасаешься, або как греки указали?
– А всяко, – вяло шевельнул ладонью Никон, – добры обоя.
Гость возразил:
– Только лапоть на обоя ноги плетётся.
– Всяко гоже, – упёрся монах. – Кады как. Аз тремя персты, как к спокою гораздше, оно и чертей не корчит и мне от гостюшек бездосадно. Быват, отойду в забытье, то и двумя перстами обмахнусь, так они из кельи с воем умахнут, яко ветр выдует. Но-о, уж как вспять влетят, то так-то рёбра настучат и боки намнут! Пластом отлёживаюсь. А я от ссылок да неправды царской вкрай охворал и весь оголодовал. В страхе и нищете живот износил и сна лишился. В голове шум велий, аки ковали мехами огнь вздувают, да в наковальни молотами гудут. Оно и ноги не носют. Чую, край доспел на ниву Божию в колодине откочёвывать.
Сугробный старец вновь притопнул посошком и как приговорил:
– Воистину – доспел! Токмо на жальник к содружникам подкатоличным, к другим немцам русским. А нивушка Божия вельми заселена убиенными за Исуса, и до времени в сельбище том петухи не поют, люди не встают, солнышко не блестит, небушко не звездит, лишь Свете Тихий неизреченный над ними, праведными, царует.
– Алексеюшка-царь небось на нивушке почиват, меня поджидат? – с виноватинкой в заискивающем шепоте понадеялся Никон.
– Нет, – отрубил старец. – Ему к Свете Тихому врата всекрепко зааминены. Он в собинном местилище в муках приисподних. Суда Страшного ждёт. Тебе к нему наказано, к своему выученику державному.
Никон засопел, навалился на посох, обвис на нём чёрным пугалом и проговорил удушливо, в землю:
– Этак-то допредже и Аввакумушко гордой предрёк: «Знай, патриарше, с греками-латинщиками дашь маху – втащишь себя на плаху». То и сталося. Эт куды от меня ум-от подевалси?..
Сугробный старец поднялся с валуна, стоял во всём белом, сам белый в лапоточках берестяных и утешливым взглядом смотрел поверх сникшего мниха на озеро, задёрнутое шторой тумана, за которым упряталась увечная лебедь, проговорил:
– А и с умом воровать – суда не миновать.
– Не миновать, – не поднимая головы покорливо признал Никон. – Но-о… Есмь у меня надёжа едина, кабы её управить ладнее. – И с отчаянием, замешливо, начал выговаривать: – Фёдор Лексеевич, наследыш Тишайшего, всё-то грамотки шлё-ёт, всё-то про-осит моего прощения рукой на бумаге родителю безрассудному и молитв разрешительных. А кого я смею – священства лишенный мних?
– Аки мних и потшись, – тихнул голосом старец. – Слова твои ангелы слышали и на свиток записали, да ведомо будет… Сказываю тебе – потшись.
– Николи! – Никон зло отпнул посохом камешек, он отлетел в туман и там пичкнул в озеро, будто обиженно всхлипнул. – Я ишшо не самошедшай! Пущай поклонно зовёт на престол мой московскай. Ужо там в Большом Успении при народном множестве, я, как есмь патриарх российской, отпущу государю усопшему прегрешения его и помолюсь с иерархами русскими пред святыми мощами во спасение души его. Наче – никак. Наче некомуждо станет и за меня, одним грехом с государем грешного, Господу докучать о милости.
– Как же Иоаким? – совсем уж шепотом прошелестел старец. – Ноне он патриарх.
– Самоставник царской, не патриарх! – вскричал Никон. – Вот его с митрополитами, им ставленными – Лариошкой да Пашкой, да греков-иудов за хлеб-соль мою распявших меня аки Христа – заломлю наипервейше, потом уж покаяние Господу скажу за грех мой вероотступный. Тако учну, как покойный Иван Неронов наущал. Со слому!
То ли камыш прибрежный еле шумнул, то ли старец затухающе молвил:
– На Руси што ни ломать, чужих бесов не звать, свои есть…
– Е-е-есть…