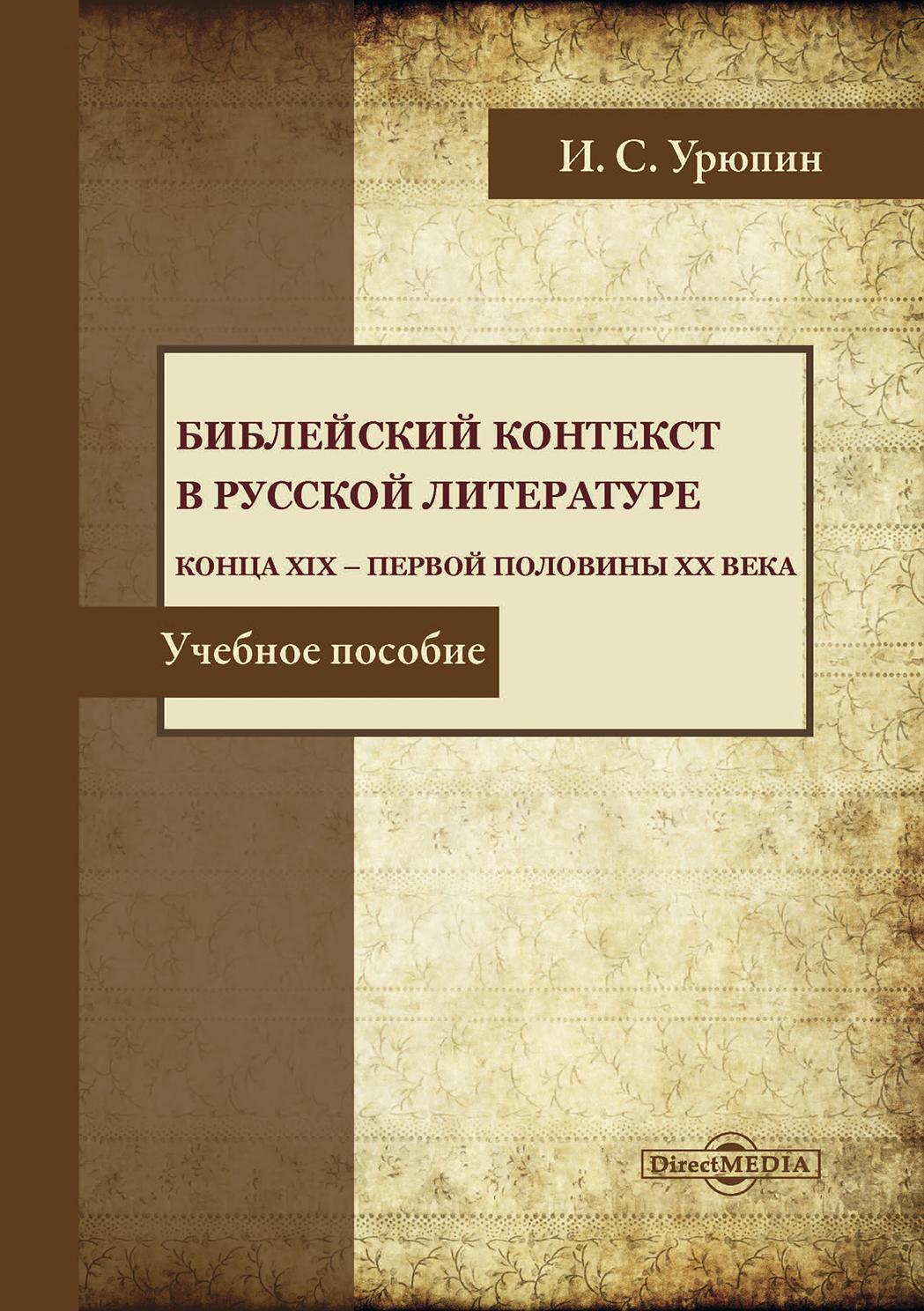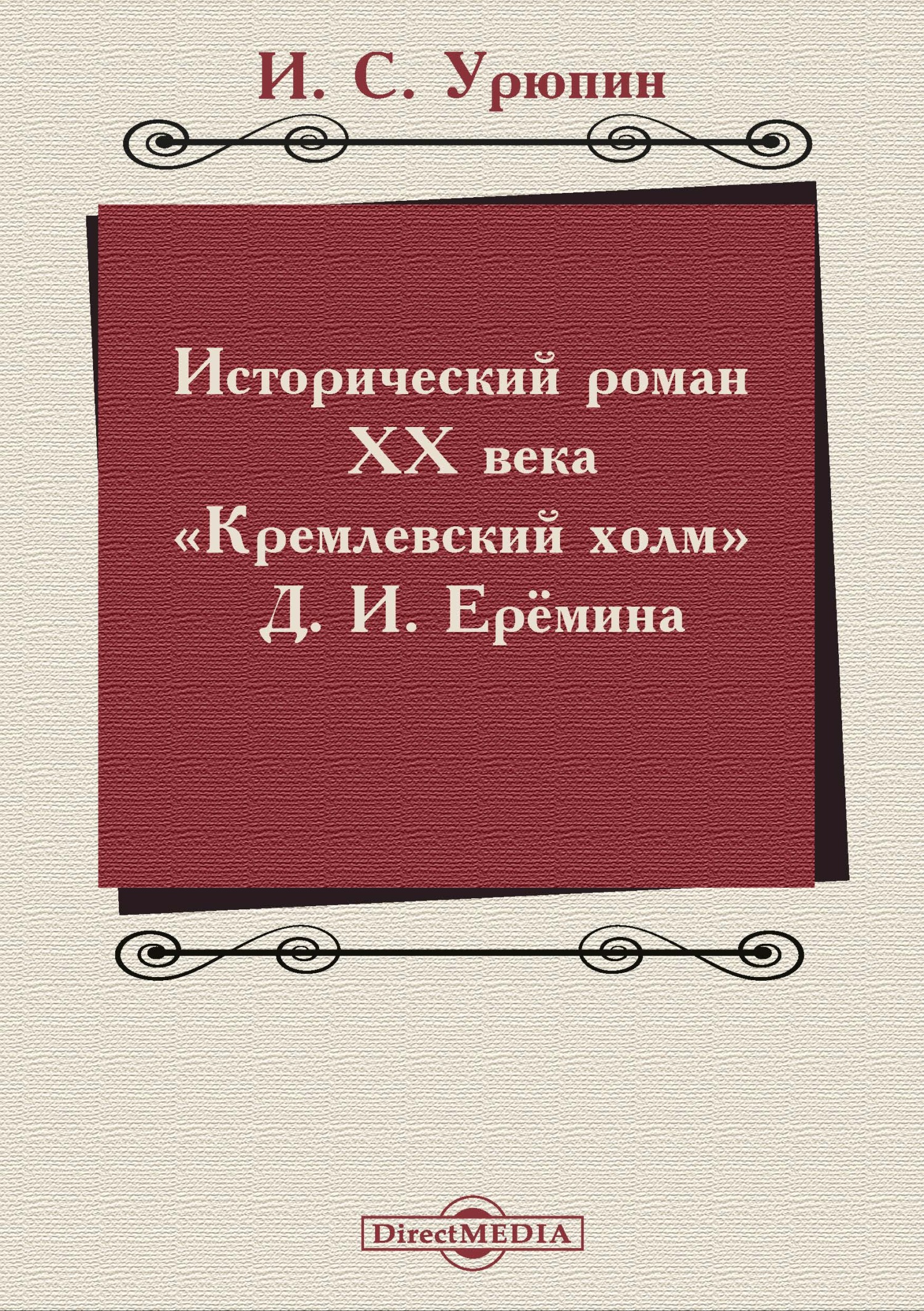романтическое разочарование. Поскольку в «Столбцах» важен лермонтовский подтекст, возможно, что бедлам в «Красной Баварии» также вызван избытком подаваемого в этом баре виски (23), а не личными трагедиями посетителей.
181
Упоминание «варенья», которое «ложечкой носимо», усиливает сатиру на нэповское мещанство отсылкой к «Евгению Онегину», где строчки «обряд известный угощенья: / несут на блюдечке варенья», преподносятся в контексте сатиры на филистерство провинциального дворянства (глава 3, III).
182
Строчка «к невесте лепится ужом» содержит аллюзию на литургическое «да прилепится муж к жене» из брачного ритуала, а слово «ужом», очевидно, указывает на искусителя-змея, который «изобрел» все «нелепости» половой жизни. Федоров также использует это выражение в уничижительном смысле (см. [НФ 1: 53]).
183
Восклицание «прости ей Бог!» в «Черкешенке» вызывает в памяти образ Бэлы из одноименной главы романа Лермонтова «Герой нашего времени». Максим Максимыч, сожалея о том, что, умирая, Бэла ни разу не вспомнила о нем, говорит: «Ну да Бог ее простит!..» Хотя Максим Максимыч был добр к Бэле, это не отменяет того обстоятельства, что он был своего рода тюремщиком для похищенной девушки. Поэтому не Бэла, а он и, главное, ее соблазнитель Печорин скорее, чем она сама, нуждаются в прощении.
Тема ребенка, ставшего жертвой нэпа, часто повторяется в литературе 20-х годов. Например, в романе «Жизнь и гибель Николая Курбова» И. Г. Эренбурга Курбов встречает на улице маленькую девочку, которая просит хлеба. Подойдя к Курбову в больших башмаках, явно не по ноге, она внезапно падает и умирает. Курбов, ревностный коммунист, после этого инцидента решает еще яростнее, чем раньше, истреблять мещанских эксплуататоров.
184
Нэп в 20-е годы часто связывали с образом младенца, и нередко в отрицательном смысле. Так, Курбов, главный герой романа Эренбурга, называет нэп «пухлым младенцем с отменно старческим лицом», чье рождение кажется «нерадостным», а процесс роста выглядит «мерзким». Проходя мимо Кремля, Курбов отмечает «празднование крестин рослого уродца, рожденного в Кремле» [Эренбург 1923: 224, 250].
185
Изображение «бесстыдного» кота, возможно, в какой-то мере навеяно пушкинскими строками: «Жеманный кот, на печке сидя, / Мурлыча, лапкой рыльце мыл» («Евгений Онегин», глава 5, V).
186
Этот библейский мотив появляется и в «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого. У знакомых и друзей покойного лишь одна реакция на его смерть: «чувство радости» из-за того, что «умер он, а не я». Принадлежащие к высшему обществу карьеристы из толстовской повести нашли своих вульгарных мелкобуржуазных последователей в ревущей толпе на футбольном матче из стихотворения Заболоцкого.
187
В пятой главе книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» Бахтин говорит о «гротескном теле», которое «поглощает мир и само поглощается миром» [Бахтин 1965: 343]. Бахтин считает, что французский писатель прославлял «становящееся тело» [Там же] в состоянии сообщения с внешним миром, демонстрируемого в таких «актах телесной драмы», как «еда, питье, испражнение (и другие выделения: потение, сморкание, чихание), совокупление, беременность, роды, рост, старость, болезни, смерть, растерзание, разъятие на части, поглощение и другим телом» [Там же: 344]. Все эти «акты телесной драмы» совершаются на границах тела и мира или на границах старого и нового тела. Автор «Столбцов» представляет смертное человечество в похожих на раблезианскую образность терминах, с тем отличием, что воспринимает открытое тело как пугающе отвратительное. Для него «родовое тело народа» не сливается, как у Рабле, с понятием «исторического бессмертия народа» [Там же: 351], а скорее, наоборот, связано со смертностью человеческого тела. Заболоцкий, возможно, познакомился с идеями Бахтина в 1920-е годы, когда они в основном сформировались, благодаря своему другу и соратнику — обэриуту К. К. Вагинову, принадлежавшему к бахтинскому кружку (см. [Clark, Holquist 1984]). В 1933–1935 годах Заболоцкий работал над адаптацией романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» для детского чтения.
188
Л. Я. Гинзбург отмечает значимое отсутствие каких-либо эпитетов в строчке «в своих штанах и башмаках»: «энергия слова здесь именно в отсутствии эпитета» [Гинзбург 1984: 149].
189
В «Записках из подполья» рассказчик придерживается мнения, что «естественные» люди (такие, как Зверков) первыми станут «фортепианными клавишами» и «штифтиками» в «счастливом» хрустальном дворце конформизма.
190
«Der Mensch ist was er isst» (нем.) — «Человек есть то, что он ест», ставшая крылатым выражением цитата из рецензии Л. Фейербаха на книгу немецкого физиолога и философа-материалиста Я. Молешотта «Популярное учение о питательных продуктах» (1850). — Примеч. ред.
191
7W£vqa (греч.) — «дух». — Примеч. ред.
192
Т. А. Липавская приводит запись Л. С. Липавского, свидетельствующую об интересе Заболоцкого к триаде Платона. Запись содержит перечень предметов, интересовавших поэта в 1933–1934 годах, в котором с платоновской триадой соседствуют «фигуры революции» и «фигуры и положения при военных действиях». По мнению К. Кларк, время «высокого сталинизма» содержит платоновский элемент (см. [Кларк 2002]).
193
Юнггрен считает промышленную идиллию, представленную в «Офорте», «псевдооптимистической». Думается, однако, что Заболоцкий рассматривал технику в качестве подлинного средства Спасения: в «Торжестве земледелия» он приветствует «трактор» как орудие, ведущее к благоденствию.
194
Ср. в поэме Маяковского: «Россия / вся / единый Иван,/ и рука / у него — Нева, / а пятки — каспийские степи». А также: «Человек — / голова в Казбек! — / идет над Дарданелльскими фортами».
195
Стихотворение Заболоцкого вызывает ассоциации с «Пироскафом» (1844) Боратынского, где поэт, до этого ненавидевший бездушную технику, восхищается «одним из достижений “железного века” — пароходом» [Пигарев 1964:14]. Он с радостью наблюдает, как «колеса могучей машины» бесстрашно «роют волнистое лоно пучины», как капитан, стоящий на корме, уверенно управляет ходом машины, а судно «братствует с паром». Видя все это, поэт верит, что пароход благополучно доставит его в сказочную Италию, этот «Элизий земной». Боратынский умер вскоре после описываемого морского путешествия, в Италии, элизиуме своей мечты, и эта «ироническая» смерть в момент, когда, как казалось, пристанище было уже достигнуто, по-видимому, намекает на необходимость еще более серьезной борьбы со смертью. Боратынский был одним из любимых поэтов Заболоцкого, с которым его, помимо всего прочего, объединяло почитание Гёте — поэта и философа, проникшего во многие тайны природы.