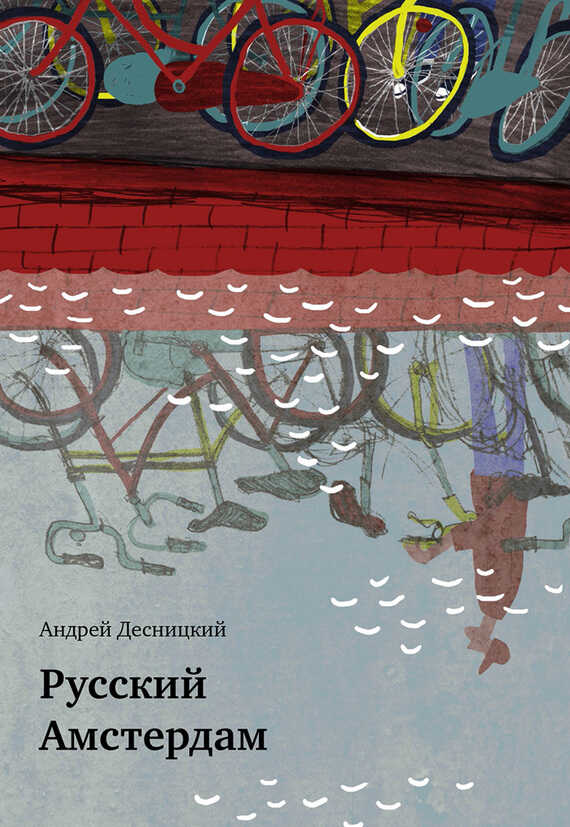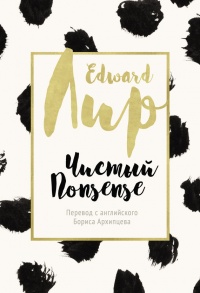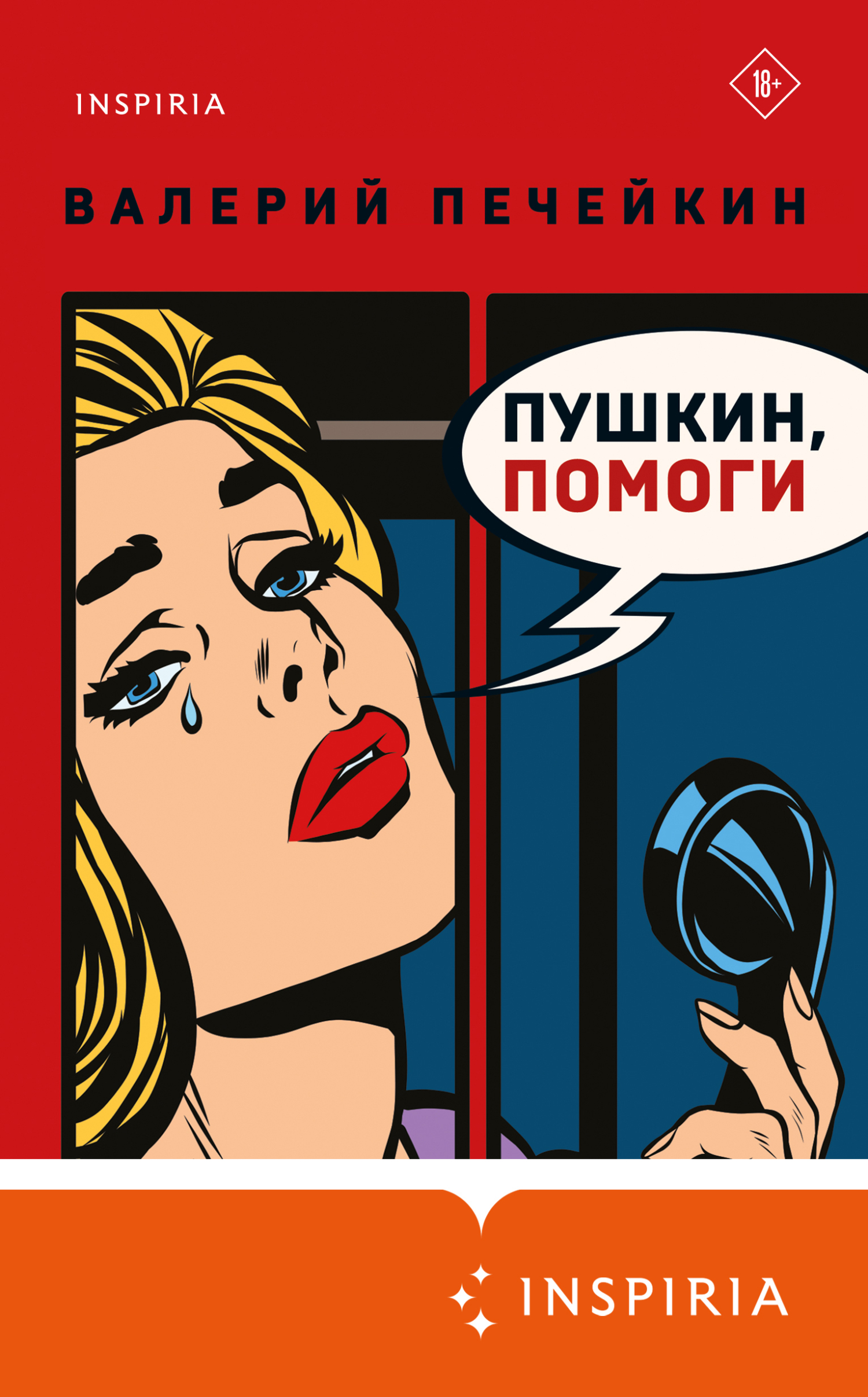узников послания от верной братии московской, и все они были неутешительны: многие повинились и приняли никонианские новины. Федосья Морозова писала, как ей с людьми её досаждают власти, со дня на день ждёт ареста, но посмерть стоять будет за истинную веру, а вот многие склонились и приняли треперстие, убоясь казней. И князь Иван Хованский Большой, гораздо претерпев, сдался. Это известие особо огорчило узников. Фёдор с Лазарем горячо, взахлёб, гугнили мало-мальски подросшими языками, а старец, инок Епифаний, молча в углу плакал. Шибко расстроился Аввакум.
– Не вынес, сердешной, вот тебе и до смерти смерть, – как бы прощаясь с погибшим, но и осуждая, проговорил протопоп. – Ослабе-ел, дух-то и попёр из него кишкой.
– Бат, ба-ат, – загыкал Лазарь. – Пошто кишкой-то? Дух, он туто-ка. – Потыкал себя в грудь пальцем. – В грудине дышит.
Аввакум огрызнулся:
– А каков дух, тамо ему и место.
– Ну а Неронов, духовный отче твой, он что, для виду токмо смирился с никонианами? – с трудом, но выговорил Фёдор. – А уж так-то с имя пластался, а тож ослабел?
Аввакум покивал головой в отросших седых космах:
– Прости его, Господи, – перекрестился в угол на иконки, – одначе не хочу слышати о нём худых слов ни от ангелов. И всё тут.
От Марковны из Мезени нет-нет да прилетала весточка. У них там тоже старались посланники царёвы: прибредших вслед за батюшкой Аввакумом Фёдора и Киприянушку, Христа ради юродивых, после расспросов о вере удавили на воротах пред окошком избёнки. Писала и о новостях московских: там-то уж вовсю воздвиг дьявол бурю на староверов, в костре сожгли Исайю, а с ним дворового человека Салтыковых, старца Иону-казанца в Кольском рассекли на пятеро, в Холмогорах Ивана-юродивого спалили, в Боровске Полиакта-священника и с ним четырнадцать человек сожгли ж. Многих и многих за веру древлюю животов лишили, всех и не перечесть, имена их известны одному Господу.
А скоро прознал Аввакум, что и Марковну с детьми – Иваном и Прокопием – в землянку посадили, а парней чуть было не повесили, уж и верёвки на шею накинули, да повинились сыновья. Прокопий, тот смирный, молчун, а Иван бойкий, весь в отца. Задумался о их судьбе Аввакум, захмурел, сказал только:
– Царство Божие само в руки валилось, да не словчились, бедняшки, ухватить венков мученических.
Сказал и вспомнил, как в Москве на Угреше в Страстную неделю приволоклись к нему под окошко сыновья, а у Ивана рот и усишки в крошках яичных. Боль прострельнула сердце протопопа, аж сбледнел и в глазах закатались черные колёса. Глядя на него струхнул Ивашка, быстро обобрал рот и рукавом утёрся, тож проделал и Прокопка.
– Што ж это, детки? – простонал Аввакум. – Еще не воскрес Христос, а вы уже праздничаете?
Прокопка зажмурил глаза, уткнул в грудь подбородок, застыдобился и только, даже не скраснел, а Ивашка – тот и оправдываться начал, охальник.
– Дак, батюшка, энто те стенали и плакали, которы с Христом были и еще не ведали, что Он воскрес, а мы-то всегда знаем… вот и радуемся.
– Ох, горе моё! – выстонал протопоп. – Далече так-то пойдете, сукины дети. Это што же из вас такое новое на Руси нарастает?
И прогнал их от окошка, а сам помраченно ткнулся в угол, едва живой от долгого строгого поста…
По тундре слухи скачут на оленях, и скоро узнали в Пустозерске, что казни чинит прибывший с тридцатью стрельцами Бухвостовского царского охранного полка полуголова Иван Елагин. И что тянется за карателями кровавый след от самой Москвы и не минует Елагин Пустозерска.
Полуголову этого знавал Аввакум ещё сотником по Нижнему Новгороду – смуглолицего, с раскосыми волчьими глазами, подозрительного ко всем служаку. Столько лет скапало, да вот и встретились. Нагрянул со своей командой полуголова к ним, порыскал глазами, усмотрел непорядок. Тюрьма хоть и была построена, да не так, как следовало – бревенчатая ограда, в центре её просторная землянка с доброй печью, под ногами пол из жердей, лавки, икон старого письма полный угол. Облаченный царём большой властью, он припугнул воеводу Неёлова за самочинность и тут же приказал рыть по четырём углам ограды ямы с одним небольшим окошком в срубе у самой земли, куда подавать хлеб и воду и в него же метать на лопате из ямы всё ветхое во двор, а ставень на окошке затворять на ночь на замок, а ключ держать в караульне.
Ямы рыли-долбили без передыху неделю и расселили в них узников, а землянку заняла стража, прежде жившая в домишке у воеводской избы. Аввакума переселяли последним, и полуголова удосужил его беседой. Больше говорил сам, едва шевеля тонким, как прорезь, ртом.
– Всегда-то не люб ты мне был, анафема, а позже, как ты на «колдофе» из норы смертной девку уволок, да куда-то от глаз властей скрыл, ещё пуще того возненавидел. Да-а, претерпел я за тебя… Из сотников в стрельцы понизили, так как в мою стражу ты её упёр. Веть ты? Теперя-то чо запиратися… Лет тому прошло много, но у меня на тебе дононе вота где, – стукнул кулаком в грудь, – шибко люто можжит! Луконю стрельца помнишь?
– Помню, – вздохнул Аввакум, – доброй он человек.
Елагин тоже вздохнул, но злое сожаление было в его вздохе.
– Доброй, ишо ба: спину кнутьями до казанков ободрали, а всё твердил ваши с дьяконом слова, што, мол, собаки бродячие выгребли из земли гулёну Ксенку и, мобудь, сожрали. На том дело и стало, но я не ве-е-рю. Луконя-то с радости, что жива оставили, забрёл в кабак царской, да ну всех поить, деньги почём здря целовальнику метать. А откель у стрельца такие деньжища – полтину, али рупь цельный спустил… Ну ладно, табе нонича о другом помыслити надобно.
Полуголова достал из обшлага кафтана бумагу и стал считывать с неё вопросы, отмечая их крестиком.
– Символ веры правильно чтешь ли?
Аввакум стал читать:
– «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя. – И дойдя до: – И в Духа Святого, истинного, Животворящего», был остановлен окриком:
– Вот и брешешь! Слова «истинного» в Символе веры нет!
Зло прищурился протопоп:
– Дух Святой истинен есьм, а вы, воры, слово «истинный» из Символа веры выбросили.
Елагин удрученно перекосил брови, кашлянул:
– Та-ак… ну а тремя персты креститеся хощешь ли, по нынешнему изволению властей?
– Тремя персты не крещусь и не буду, бо нечестиво то. И што много о том говорити.
Елагин спрятал бумагу за обшлаг, сожалеючи заулыбался безгубым ртом.
– Шепни-ка мне, ну пошто царь-батюшка тебя до сих пор живота не лишает, а? Всемилостивая царица Марея Ильинишна, твой ангел-хранитель, помре,