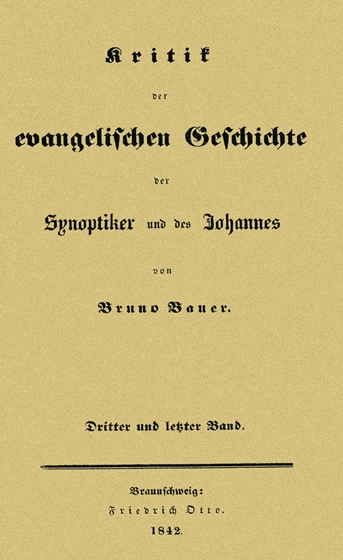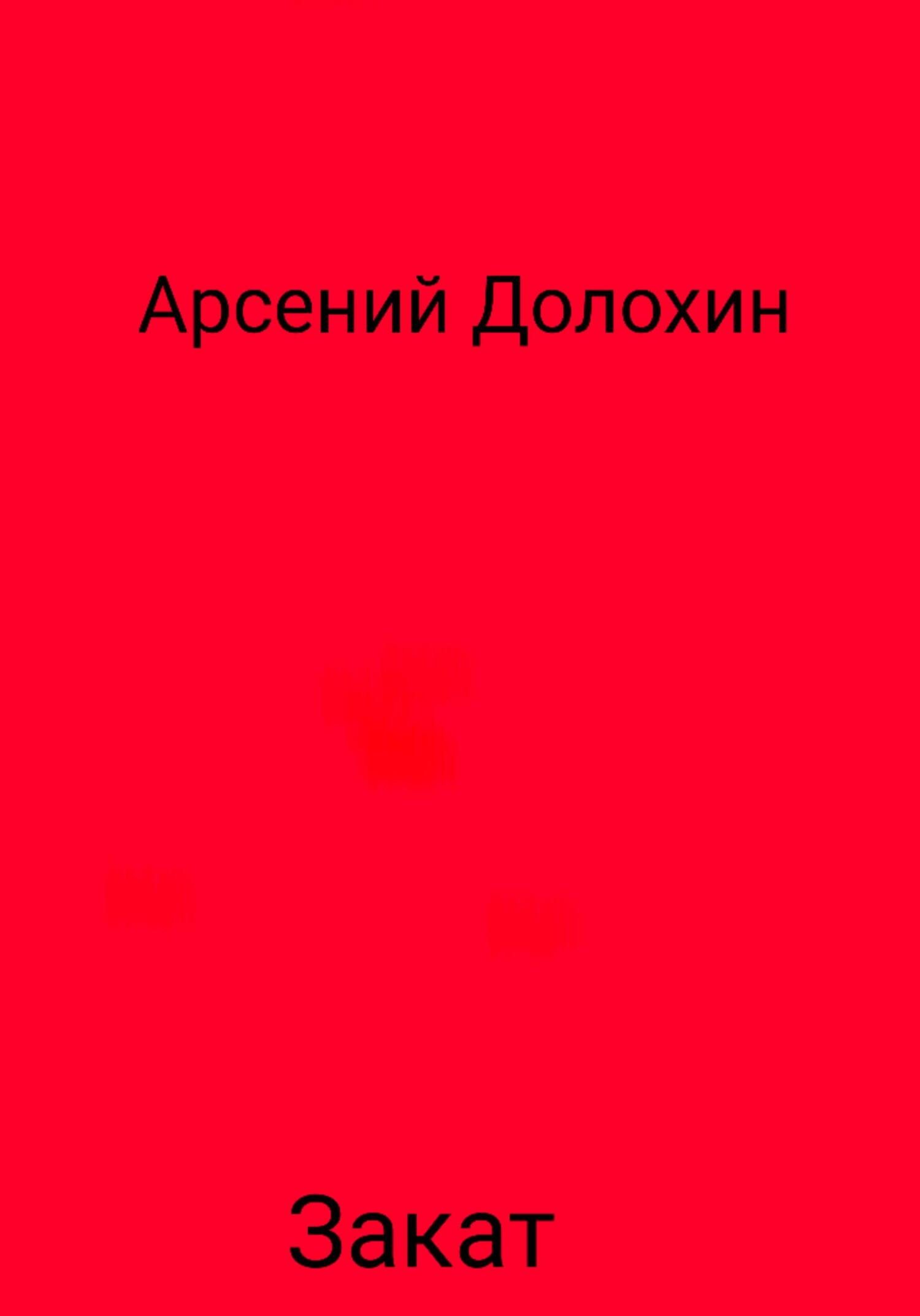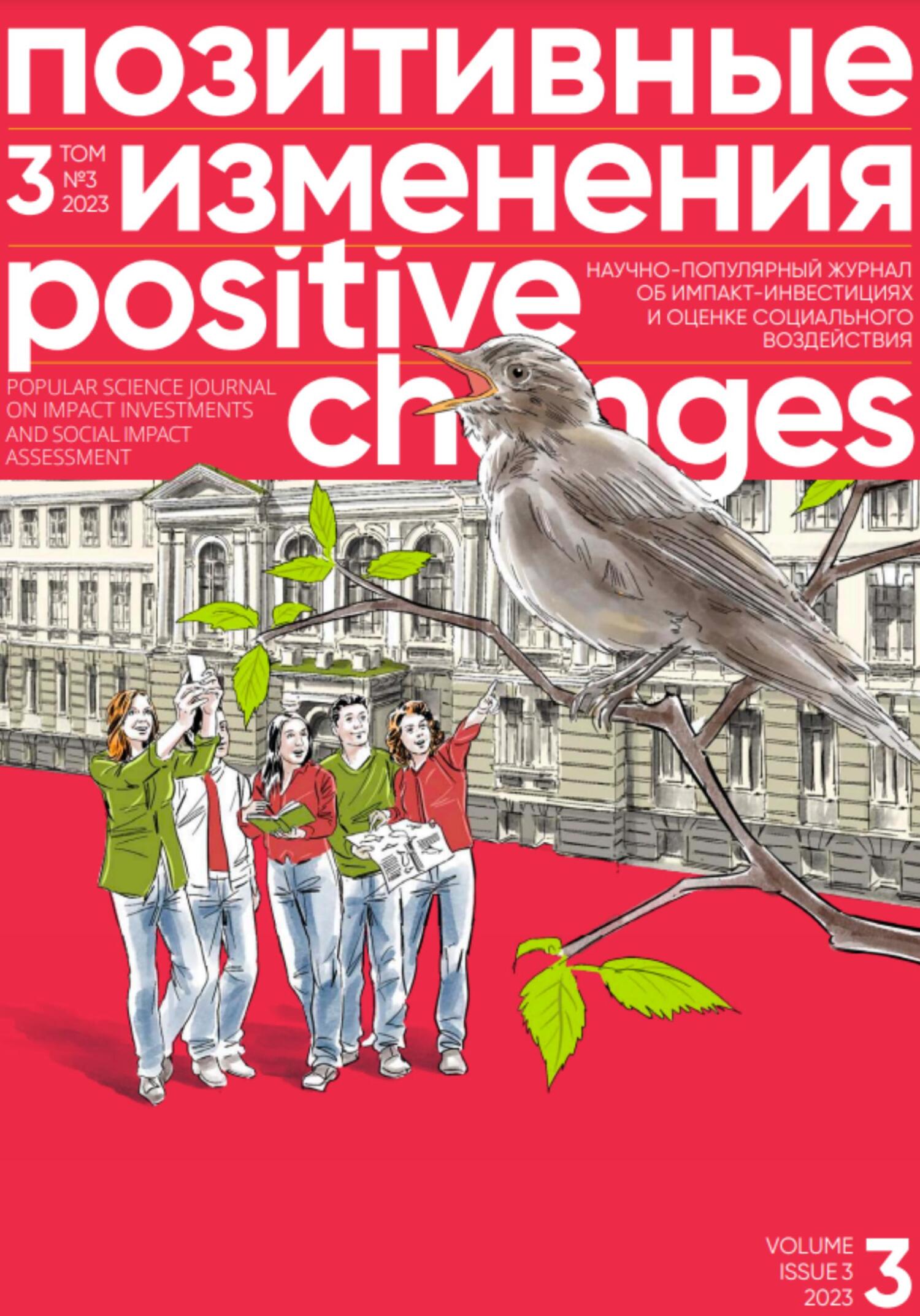Каракаллой (212) прав римского гражданства всем провинциалам[300]. Тем самым античное, статуарное понятие гражданина было упразднено. Теперь существовала «Империя», и существовал, следовательно, новый род принадлежности к ней. Показательно соответствующее римское понятие войска. В подлинно античные времена никакого «римского войска», в том смысле, как говорят о прусском войске, не существовало; были лишь войска, т. е. определенные в качестве таковых назначением легата войсковые части («войсковые тела»), как ограниченные и зримо присутствующие тела: exercitus Scipionis, Crassi [войско Сципиона, Красса (лат.)], но никакого exercitus Romanus [римского войска]. Лишь фактически упразднивший своим эдиктом понятие civis Romanus [римского гражданина] Каракалла, который уничтожил римскую государственную религию посредством уравнивания городских богов со всеми чужими божествами, создал также и – неантичное, магическое – понятие императорской армии, проявляющейся в форме отдельных легионов, между тем как древнеримские войска ничего не означали, но исключительно чем-то были. Выражение fides exercituum [верность войск] заменяется на надписях выражением fides exercitus [верность войска]; место воспринимавшихся телесно отдельных божеств (Верность, Счастье легиона), которым приносил жертвы легат, заступил всеобщий духовный принцип. Эта перемена смысла произошла также и в чувстве родины восточных людей императорской эпохи – и не одних только христиан. Для аполлонического человека, пока остаток мироощущения сохраняет в нем силу, родина представляет собой почву (в исключительно телесном смысле), на которой построен его город. Здесь вспоминается принцип «единства места» аттических трагедий и статуй. Для магических людей – христиан, персов, иудеев, «греков»[301], манихейцев, несториан, мусульман – родина никак не связана с географическими реалиями. Для нас она представляет собой неуловимое единство природы, языка, климата, нравов, истории; не земля, но «страна», не точечное настоящее, но историческое прошлое и будущее, не совокупность людей, богов и домов, но идея, которая уживается с не знающим покоя странничеством, глубочайшим одиночеством и тем пра-немецким стремлением на юг, от которого погибали лучшие из лучших – начиная с саксонских императоров и до Гёльдерлина с Ницше.
По этой причине фаустовская культура была в сильнейшей мере направлена на распространение, будь то политического, экономического или духовного характера; она преодолевала все географически-материальные границы; безо всякой практической цели, лишь ради символа, она старалась достичь Северного и Южного полюса; наконец, она превратила всю земную поверхность в единую колониальную область и экономическую систему. То, чего желали все мыслители начиная с Майстера Экхарта и до Канта, а именно покорить мир «как явление» властным притязаниям познающего «я», это-то и делали все вожди начиная с Оттона Великого и до Наполеона. Подлинной целью их честолюбия было безграничное – всемирная монархия великих Салиев и Штауфенов, планы Григория VII и Иннокентия III, та империя испанских Габсбургов, «в которой не заходило солнце», и империализм, ради которого ныне ведется далеко еще не завершенная мировая война. Античный человек в силу внутренних причин завоевателем быть не мог, несмотря на поход Александра, который, как романтическое исключение, лишь подтверждает правило (а еще большим подтверждением служит внутреннее сопротивление его спутников). Созданные северной душой гномы, русалки и домовые – это существа, которые с неутолимой страстью желают освободиться от связывающего их элемента; греческим дриадам и ореадам эта страсть вырваться вдаль и на свободу была совершенно неизвестна. Греки основали сотни отпочковавшихся городов на береговой линии Средиземного моря, однако мы не видим здесь даже самомалейшей попытки проникнуть с целью завоевания вглубь суши. Поселиться вдали от берега значило бы упустить из вида родину; а уж поселиться в одиночку, что представлялось идеалом трапперам американских прерий, а еще задолго до них – героям исландских саг, для античного человека совершенно немыслимо. Исключительно фаустовскими оказываются и такие сюжеты, как переселение в Америку (каждый полагается при этом на собственные силы и испытывает глубокую потребность остаться одному), испанские конкистадоры, поток калифорнийских золотоискателей, необузданное желание свободы, одиночества, безграничной независимости, это исполинское отрицание все еще как-то ограниченного чувства родины. Ни одной другой культуре, в том числе и китайской, ничто подобное неведомо.
Греческий переселенец – все равно что ребенок, который держится за материнский фартук: переехать из старого города в новый, который вместе с согражданами, богами и обычаями является точной копией старого, при сообща бороздимом море неизменно перед глазами; продолжать там на агоре обычное существование ζωον πολιτικóν – за пределы этого не была в состоянии выйти смена декораций аполлонического бытия. Для нас, не способных отказаться от свободы передвижения, по крайней мере как права человека и идеала, это означало бы горчайшее рабство. Под этим углом зрения следует оценивать римскую экспансию, которую очень легко понять в превратном смысле. Дело в том, что она весьма далека от распространения родины вширь. Экспансия эта удерживается в точности в пределах той области, которой люди культуры уже овладели; теперь же она досталась им как добыча. Даже речи никогда не заходит о планах мирового господства в стиле Гогенштауфенов или Габсбургов, об империализме, который можно было бы сравнить с современностью. Римляне не сделали никаких попыток проникнуть во внутреннюю Африку. Свои войны более позднего времени они вели лишь с целью обеспечить сохранность своих владений, безо всякого честолюбия, без символического порыва к распространению, и без сожалений они расстались вновь с Германией и Месопотамией.
Обобщим все это еще раз: аспект звездных пространств, до которого расширилась Коперникова картина мира, господство западного человека над земной поверхностью как следствие открытия Колумба, перспектива масляной живописи и сценическая перспектива, а также одухотворенное чувство родины; прибавим к этому цивилизованную страсть к скоростному передвижению, овладение воздухом, экспедиции на Северный полюс и восхождение на почти недоступные горные пики – из всего этого проступает прасимвол фаустовской души, безграничное пространство, в качестве производных которого следует нам понимать такие особые, в данной форме чисто западноевропейские образования душевного мифа, как «воля», «сила», «дело».
II. Буддизм, стоицизм, социализм
10
Тем самым становится наконец понятным явление морали[302] – как духовное истолкование жизни ею же самой. Мы взошли на вершину, с которой возможен свободный взгляд на эту обширнейшую и сомнительнейшую из всех областей человеческого размышления. Однако именно тут-то и необходима та объективность, до которой пока что никто так всерьез и не поднялся. Пускай на первых порах мораль будет чем угодно: сам ее анализ частью морали никак быть не может. К существу дела приводит здесь не то, что мы должны делать, к чему должны стремиться, как мы должны оценивать, но то усмотрение, что эта постановка вопроса уже по своей форме является симптомом исключительно западного мироощущения.
Западноевропейский человек, причем