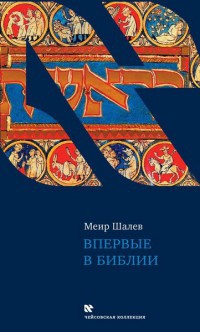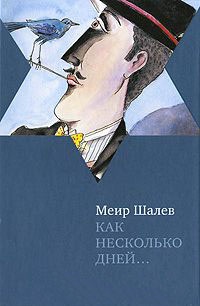Так или так, шкаф стал тайной и игрой Габриэля. Как Апупа открывал его, когда Габриэль уходил в школу, так Габриэль теперь открывал его, когда Апупа уходил на дальний конец нашего поля. Открывал дверцы, перелистывал платья и со временем начал все больше смелеть. И однажды, когда дедушка и Арон, вооруженные инструкциями и советами Рахели, снова поехали торговаться по поводу какого-то изобретения, он разделся догола, стал переходить от платья к платью, спотыкаясь, дрожа и почти теряя сознание от их нежного прикосновения к его коже, а под конец наклонился, приподнял широко расставленными руками края «одной-рубашки-на-теле» и медленно-медленно выпрямился внутри нее. Мал он был, и его голова не достигла вешалки, и поэтому рубашка Батии накрыла его целиком, обняла и окутала своим женским запахом и теплом.
Через несколько недель он уже перепробовал все платья и знал, какое из них самое приятное, какое идет вторым номером, а какое третьим, но однажды, стоя во весь рост в пустоте одного из них, он вдруг услышал стук сетчатой двери, а затем удар деревянной и шаги Апупы, неожиданно вернувшегося домой.
Его сердце замерло от страха. Уши встали торчком. Он слышал, как дед расхаживает по дому, и оба они, Габриэль и дом, дрожали.
— Габриэль, — позвал Апупа.
Притаившись внутри платья, Габриэль не отвечал.
Шаги приблизились, и голос снова позвал, забрасывая арканы и наживки:
— Пуи, цыпленок мой, где ты? Пуи?!
В конце концов Апупа отчаялся и, придя к выводу, что Габриэль вышел из дома, чтобы пойти ко мне или к матери, решил воспользоваться случаем и снова заглянуть в заветный шкаф. Он открыл дверцы, и Габриэль замер от ужаса. Большая голова и широкие плечи деда заполнили все пространство шкафа и прижали платья к стенкам. После смерти Амумы Апупа уже успел укоротиться на несколько сантиметров, но все еще оставался огромным, и вширь, и в высоту, и Габриэль вдруг почувствовал, что одно из давних его головокружений недоноска снова начинает вращаться вокруг него и подгибать ему колени. На глазах потрясенного Апупы то, что было «одной-рубашкой-на-теле», неожиданно рухнуло на дно шкафа. Протянув руку, он нащупал внутри маленькое, худенькое и прохладное тельце, и поскольку не знал, что это тело его внука, и не понял, что это не воспоминание, то лишь одна возможность пришла ему в голову — что это вернулась Батия.
Вопль, вырвавшийся из его груди, никто в деревне не забыл до сих пор. То был крик сильней всех его прежних криков — и того, которым он кричал с вершины Мухраки, и того, которым кричал в Вальдхайме, когда искал Батию. Платяной шкаф Амумы стал вдруг центром гигантского, диаметром в несколько километров, круга потрясений, внутри которого у всех коров вмиг пересохло молоко, все куры попадали в обморок и «дождь из птиц и слив обрушился на землю».
Когда Габриэль выполз наконец из «одной-рубашки-на-теле», Апупа стиснул челюсти с такой силой, что его зубы, казалось, вот-вот треснут и сломаются, но не сказал внуку ни слова — его грудь словно распирало изнутри, и он сам не знал, что услышит, если сейчас откроет рот: еще один крик, или стон, или хвост тех рыданий, что вырвались у него на короткое мгновенье в день похорон жены и тут же были проглочены снова. И вот так, боясь открыть рот, он жестом велел мальчику подойти поближе, обнял его и так порывисто прижал к себе, что Габриэль застонал, а потом засмеялся и сказал:
— Апупа, ты сделаешь из меня квеч!
* * *
Последний ком земли упал на гроб Амумы, и мы думали, что сейчас птицы ускорят свой полет и солнце зайдет раньше обычного. Но ничего такого не случилось. Вместо этого сводным братьям Апупы пришлось поддерживать его по возвращении с кладбища, и уже по дороге самые востроглазые среди Йофов углядели, что, хотя тяжесть гроба уже не давит на Апупину спину, он все равно идет слегка согнувшись, а его каштановая, тронутая сединой грива уже не так возвышается над остальными головами, как обычно.
И когда мы пришли во «Двор Йофе», он тоже не поспешил, как обычно, запереть за собой ворота. Сел с нами за стол, но после первой ложки пюре встал, как будто задохнувшись, вышел, не говоря ни слова, из-за стола, проковылял к бараку, рухнул грудой развалин на пол возле кровати Амумы, которую уже покинуло тепло ее тела, и заревел так страшно, что все хозяева Долины поспешили проведать и успокоить своих коров.
— Мама… Мама… — ревел он. — Я так красиво тебя похоронил… похвали меня… погладь меня по голове…
В тот же вечер появились первые соболезнующие. Люди, знакомые лично, и люди доселе незнакомые, но известные по рассказам, а сейчас вдруг материализовавшиеся во плоти и обретшие осязаемый облик. Апупа не вставал им навстречу, и поэтому никто не заметил, что он продолжает терять в росте. Он и рук им не пожимал, и поэтому никто не почувствовал, что он теряет силу.
Человеком, принимавшим соболезнующих, тем, кто по традиции вставал им навстречу и пожимал протянутые руки, был Гирш Ландау. Всем приходившим он представлялся в сухих, несколько официальных выражениях, имевших целью скрыть таившуюся за ними бурю:
— Гирш Ландау, скрипач, — говорил он. — Старый друг семьи.
«Я надеялась, что он скажет: „Тот, который любил ее“, — сказала Рахель. — Что он воскликнет: „Тот, который любил ее всю жизнь!“ Что он крикнет: „По Планту первым должен был умереть Апупа, а вот — умерла она!“» Но Гирш не произнес ни одной из тех фраз, которые придумала для него Рахель. Его руки не переставали что-то доставать, и расставлять, и прибирать. Его глаза и плечи, хоть и слабее своего хозяина, но ему не подвластные, не переставали плакать и трястись. И он знал, что все видят знак нового союза — его рубашку, надорванную самим Апупой.
Но Гирш не только принимал гостей — он был также тем, кто убирал дом, и поливал душистый горошек, посаженный Амумой много лет назад и с тех пор год за годом расцветавший сам собой, и подавал кувшины с напитками, и подметал полы, и каждое утро, все семь дней, поднимал деда с кровати, буквально силой волоча его за собой и заставляя помыться и освежиться навстречу очередным суткам шивы.
И это Гирш решил, что нужно послать телеграмму в Австралию, и помог Рахели написать ее, и это он вскрыл письмо, полученное оттуда через три недели, и позаботился, чтобы слова: «Я приеду только после того, как он умрет» — не достигли своей жертвы.
И это он велел моей матери и Рахели сидеть возле отца.
— Вы его дочери, — сказал он, — а Пнина, неизвестно, выйдет и придет ли, а если и придет, то уж наверняка не просидит долго.
Но Пнина пришла. И действительно — несколько минут просияла белизной рядом с отцом, а потом ушла снова. Гул соболезнований, толчея, слезы, шарящие по ней глаза — всё это было для нее пыткой. Люди глазели на нее, силясь понять, как может такая небывалая красота еще и возрастать год от года, но удивленные взгляды только соскальзывали по гладкости ее кожи. Все часы природы — восходы солнца, его закаты, времена года, перелетные птицы, проносившиеся над ее домом, слои лет в ее теле — только отстукивали и отмеряли своё, а потом проходили и тонули в ней, не оставляя никакого следа. Лишь одна маленькая морщинка виднелась на ее лбу — с того дня, когда она выбежала на солнце покормить Габриэля, и одна маленькая глубокая трещинка крылась меж бровями — с той минуты, когда она распахнула окно и крикнула, что Амума лежит в бараке.