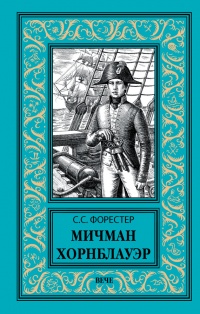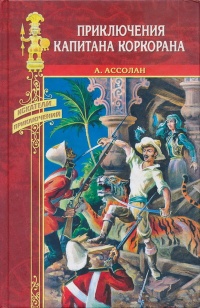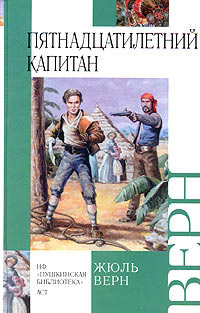— Весьма неразумно, — сказал лекарь. — Дорога причинит больному большие страдания и поставит выздоровление под угрозу.
Он пощупал Бушу пульс и задержал руку на лбу.
— Весьма неразумно, — повторил он.
Дверь отворилась, и вошел сержант.
— Карета готова, — объявил он.
— Я еще не перевязал рану. Выйдите, — произнес доктор резко.
— Я поговорю с полковником, — сказал Хорнблауэр.
Он проскользнул мимо сержанта, который запоздало попытался преградить ему путь, выбежал в коридор и дальше во двор гостиницы, где стояла карета. Лошадей уже запрягли, чуть дальше седлали своих скакунов жандармы. Полковник Кайяр в сине-красном мундире, начищенных сапогах и с подпрыгивающим при ходьбе орденом Почетного легиона как раз пересекал двор.
— Сударь, — обратился к нему Хорнблауэр.
— Что такое?
— Лейтенанта Буша везти нельзя. Рана тяжелая, и приближается кризис.
Ломаные французские слова несвязно слетали с языка.
— Я не нарушу приказа, — сказал Кайяр. Глаза его были холодны, рот сжат.
— Вам не приказано его убивать.
— Мне приказано доставить его в Париж как можно быстрее. Мы тронемся через пять минут.
— Но, сударь… Неужели нельзя подождать хотя бы день…
— Даже пираты должны знать, что приказы выполняются неукоснительно.
— Я протестую против этих приказов во имя человечности…
Фраза получилась мелодраматическая, но мелодраматической была и сама минута, к тому же из-за плохого знания французского Хорнблауэру не приходилось выбирать слова. Ушей его достиг сочувственный шепот, и, обернувшись, он увидел двух служанок в фартуках и хозяина — они слышали разговор и явно не одобряли Кайяра. Они поспешили укрыться на кухне, стоило тому бросить на них яростный взгляд, но Хорнблауэру на минуту приоткрылось, как смотрит простонародье на имперскую жестокость.
— Сержант, — распорядился Кайяр, — поместите пленных в карету.
Противиться было бессмысленно. Жандармы вынесли носилки с Бушем и поставили их в карету. Хорнблауэр и Браун бегали вокруг, следя, чтобы не трясли без надобности. Лекарь торопливо дописывал что-то на листке, который вручил Хорнблауэру его росасский коллега. Служанка, стуча башмаками, выскочила во двор с дымящимся подносом, который передала Хорнблауэру в открытое окно. На подносе были хлеб и три чашки с черной бурдой — позже Хорнблауэр узнал, что такой в блокадной Франции кофе. Вкусом кофе напоминал отвар из сухарей, который Хорнблауэру случалось пить на борту в долгих плаваниях без захода в порт, однако была горячая и бодрила.
— Сахара у нас нет, — сказала служанка виновато.
— Не важно, — отвечал Хорнблауэр, жадно прихлебывая.
— Какая жалость, что бедненького раненого офицера увозят, — продолжила девушка. — Эти войны вообще такие ужасные.
У нее был курносый носик, большой рот и большие карие глаза — никто бы не назвал ее хорошенькой, но сочувствие в ее голосе растрогало бы любого арестанта. Браун приподнял Буша за плечи и поднес чашку к его губам. Тот два раза глотнул и отвернулся. Карета вздрогнула — кучер и жандарм влезли на козлы.
— Эй, отойди! — заорал сержант.
Карета дернулась и покатилась по дороге, копыта зацокали по булыжникам. Последнее, что Хорнблауэр увидел, было отчаянное лицо служанки, когда та увидела карету, уезжающую вместе с подносом.
Судя по тому, как мотало карету, дорога была плохая, на одном ухабе Буш с шумом потянул воздух. Раздувшемуся, воспаленному обрубку тряска, должно быть, причиняла нестерпимую боль. Хорнблауэр подсел и взял Буша за руку.
— Не тревожьтесь, сэр, — сказал Буш, — со мной все хорошо.
Карету опять тряхнуло, Буш сильнее сжал его руку.
— Мне очень жаль, Буш, — вот и все, что Хорнблауэр мог сказать: капитану трудно говорить с лейтенантом о таких личных вещах, как жалость и сопереживание.
— Мы тут ничего не можем поделать, — сказал Буш, пытаясь изобразить улыбку.
Полнейшее бессилие угнетало больше всего. Хорнблауэр обнаружил, что ему нечего говорить, нечего делать. Пахнущая кожей внутренность кареты давила на него. Он с ужасом осознал, что им предстоит провести в этой тряской тюрьме еще дней двадцать. Он начал беспокоиться, и, наверно, состояние это передалось Бушу — тот мягко отнял руку и повернулся на подушке, чтобы капитан мог хотя бы шевелиться в тесном пространстве кареты.
Иногда за окном проглядывало море, с другой стороны тянулись Пиренеи. Высунув голову, Хорнблауэр заметил, что сопровождающих поубавилось. Два жандарма ехали впереди, остальные четверо — позади кареты, сразу за Кайяром. Теперь они во Франции, значит вероятность побега гораздо меньше. Стоять, неловко высунув голову в окно, было не так томительно, как сидеть в духоте. Они проезжали мимо виноградников и сжатых полей, горы отступали. Хорнблауэр видел людей, главным образом женщин — те лишь ненадолго поднимали глаза от своих мотыг, чтобы взглянуть на карету и верховых. Раз они проехали мимо отряда солдат. Хорнблауэр догадался, что это на пути в Каталонию новобранцы и выздоровевшие после ранения. Они брели, похожие больше на овечье стадо, чем на солдат. Молодой офицер отсалютовал Кайяру, не сводя с кареты любопытных глаз.
Необычные арестанты проезжали по этой дороге. Альварес, мужественный защитник Жероны[41], скончавшийся в темнице на тачке — другой постели ему не нашлось, Туссен-Лувертюр[42], чернокожий гаитянский герой, которого похитили с его солнечного острова и отправили в Юрские горы умирать в крепости от неизбежного воспаления легких, Палафокс из Сарагосы[43], юный Мина из Наварры[44] — всех их убила мстительность корсиканского тирана. Их с Бушем имена лишь дополнят этот славный список. Герцог Энгиенский, которого расстреляли в Венсенском замке шесть лет назад, принадлежал к королевскому роду, и смерть его потрясла всю Европу, но Бонапарт уничтожил и многих других. Мысль о предыдущих жертвах заставила Хорнблауэра пристальнее вглядываться в пейзаж за окном, глубже вдыхать свежий воздух.