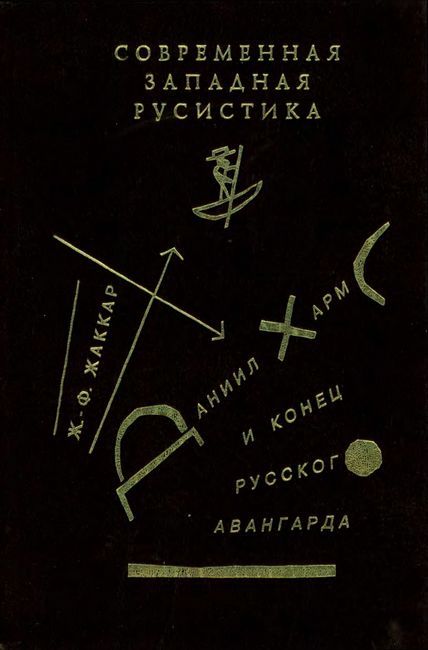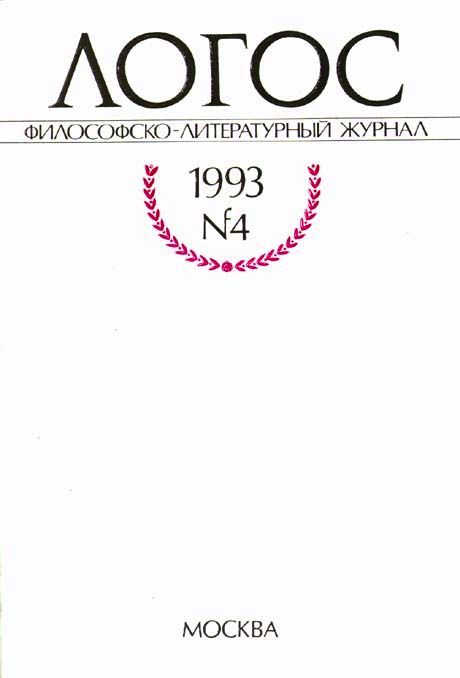пространству и оккультизму у Хармса близок поискам Малевича. Эксперименты с алфавитизацией дискурса, манипуляции с временем и интерес к числовой магии сближают Хармса с Хлебниковым. И все же творчество Хармса принципиально отличается от более раннего авангарда прежде всего отсутствием социальной утопии, которая неотделима от творений Малевича и Хлебникова.
Это исчезновение утопического компонента, с которым так неразрывно связан ранний русский авангард, объясняется девальвацией утопизма в советской культуре и политике. Действительность до такой степени пронизывается фальшью утопического сознания, что неофициальное искусство освобождается от этого элемента.
Если можно говорить о провинциализме российской мысли, то он часто принимал формы универсализма. Универсализм, космизм, — конечно, одно из наиболее характерных проявлений провинциального сознания, традиционно преодолевающего свою изоляцию и вторичность с помощью универсалистской риторики. В этом смысле Хлебников и Малевич — российские провинциалы именно в той части своего творчества, которая наиболее утопична и метафизична. Освобождение от утопизма позволяет Хармсу и обэриутам преодолеть российский провинциализм.
Сознание обэриутов переориентируется от социальной действительности к действительности знаковой, семиотической. У Хармса путь от утопического сознания к семиотическому хорошо виден в постепенном отходе от заумничества и в нарастающем интересе к проблемам дискурса и феноменологическим аспектам текста. В конце концов круг интересов Хармса и его товарищей становится все меньше похожим на круг интересов его российских предшественников. Хармс все больше погружается в решение проблем, которые интересовали таких западных мыслителей, как Витгенштейн или Гуссерль. Эта эволюция хорошо видна на псевдоматематических спекуляциях Хармса. Первоначально они скорее всего восходят к хлебниковским «Доскам судьбы» и «каббалистической» нумерологии. Но Хармса не интересует вычисление цикла мировых волн и предсказание катаклизмов, волнующие Хлебникова. Его увлекает совершенно иной аспект чисел — вопрос об основаниях счисления, о смысле числа, о соотношении времени с мерой, о смысле прогрессии натурального ряда или регрессии к бесконечности и т. д. Конечно, все эти вопросы волнуют Хармса не в математической плоскости, а как некая возможная модель построения художественного мира, радикально отличного от действительности.
Все то, что в раннем авангарде используется для магического преображения действительности, у Хармса используется для «деконструкции» самого понятия «действительность» или для критики миметических свойств литературы.
Хлебников выявлял в действительности, в истории некие скрытые числовые порядки. Для Хармса порядок находится в основном в сфере текста. Попытка упорядочить действительность (лежащая в основе большинства социальных утопий) оказывает на действительность странное, парадоксальное воздействие. Реальность пропитывается умозрительностью и «исчезает».
Происходит нарастающее отчуждение художников, интеллигентов от Истории (как от некой формы, которую принимает действительность). По мере того как История становится все менее гуманной (и гуманистической), по мере того как нарастает расхождение между историей и интеллигенцией, все более явственно проявляется отрицание смысла истории. Любопытно, что именно в Германии и в СССР, где официальная историография утверждала телеологический пафос исторического движения к «светлому будущему», оформляются наиболее радикальные формы критики истории.
Не для одного Хармса, например, характерна критика понимания истории как линейного и непрерывного движения. Поль Валери, критикуя Бергсона, утверждал, что не существует «общего временного континуума», не существует некой единой «длительности». Вальтер Беньямин разделял доисторическое время, отмеченное, по его мнению, «позитивной эволюцией», и историческое время, которое невозможно описать как линейный прогресс[614].
Сразу после Октябрьской революции такая критика в России формулируется в терминах богооставленности. Представление о том, что Бог отвернулся от России и тем самым изъял смысл из русской истории, — один из тривиальных мотивов послереволюционной эссеистики. Разрабатывается он и позже, в таких, например, произведениях, как «Котлован» Платонова или «Мастер и Маргарита» Булгакова. Глубокое теоретическое обоснование тема богооставленности истории получила у Вальтера Беньямина, который показал, что расхождение между Историей и Богом обнаруживается в европейском сознании начиная с XVII века и принимает форму аллегоризма и меланхолии, как чувства, сопровождающего созерцание руины — аллегории богооставленности истории (подробнее об этом говорилось во введении). Меланхолия — возможна только в тот момент, когда происходит окончательный разрыв между интеллектом и социальной практикой, когда любая форма возможного действия замещается меланхолическим созерцанием. Меланхолия — двойной знак. Это знак разрыва между Историей и Богом, но это и знак разрыва между индивидом и Историей.
У Беньямина меланхолия приходит на смену энтузиазму раннего авангарда. Но возможна и другая реакция — это реакция ирониста. Хармс реагирует на обессмысливание истории и действительности иронически. Ирония, как и меланхолия, — форма дистанцирования от реальности, проявление созерцательной позиции, но, как показал Кьеркегор, она отнюдь не несовместима с богословской рефлексией. Ирония может быть, например, формой дистанцированности от мирской суеты. Хармс — воплощение ирониста, — как известно, неоднократно обращался к Богу, идентифицировал себя с библейским Даниилом и тяжело переживал состояние богооставленности. Ирония — то новое, что привнесли в российский авангард обэриуты. До них авангардное искусство, несмотря на веселые эскапады футуристов, — насквозь серьезно. И это понятно, энтузиазм утопистов, разумеется, несовместим с иронией.
Как автор, Хармс никогда патетически не включен в свой текст. Он дистанцирован от него. Окно — это метафора пространственного отношения автора и мира у Хармса. Только через окно можно проецировать на мир смысл. Но это означает, что мир, в его физической данности, мир, в котором можно «участвовать», автору недоступен.
Исчезновение мира является одной из радикальных метаморфоз его дистанцированности. В «Трудах и днях Свистонова» (1929) обэриута Вагинова герой романа Свистонов превращает окружающий его мир и людей в материал книги. Реальность как бы исчезает в книге Свистонова подобно тому, как она превращается у Хармса в шар.
Он чувствовал, как вокруг него с каждым днем все редеет. Им описанные места превращались для него в пустыни <...>. Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая пустота образовывалась вокруг него. Наконец он почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе.
<...>
Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение[615].
Разрежение реальности для ирониста — это обретение свободы, потеря зависимости от внешнего мира. Но автономизация автора от действительности оставляет его самого в пустоте. Хармс в полной мере разделял судьбу такого трагического ирониста. Первоначально потеря авторской идентичности реализуется в ассимиляции подчеркнуто игрового поведения и накапливании все большего количества псевдонимов, за чехардой которых он скрывается, подобно Кьеркегору. Как и для Кьеркегора, наслоение одного псевдонима на другой идет параллельно возрастающему сознанию невозможности прямого разговора о действительности.
«Исчезновение» действительности ведет к постепенному исчезновению наблюдающего за ней. Этот хармсовский тезис подтвердился с сокрушающей силой в судьбе самого писателя. В декабре 1931 года Хармс был арестован в первый раз. Его «исчезновение»