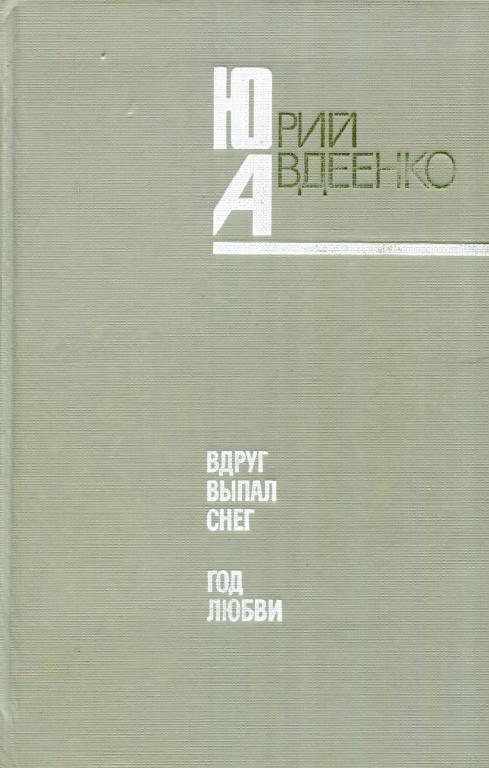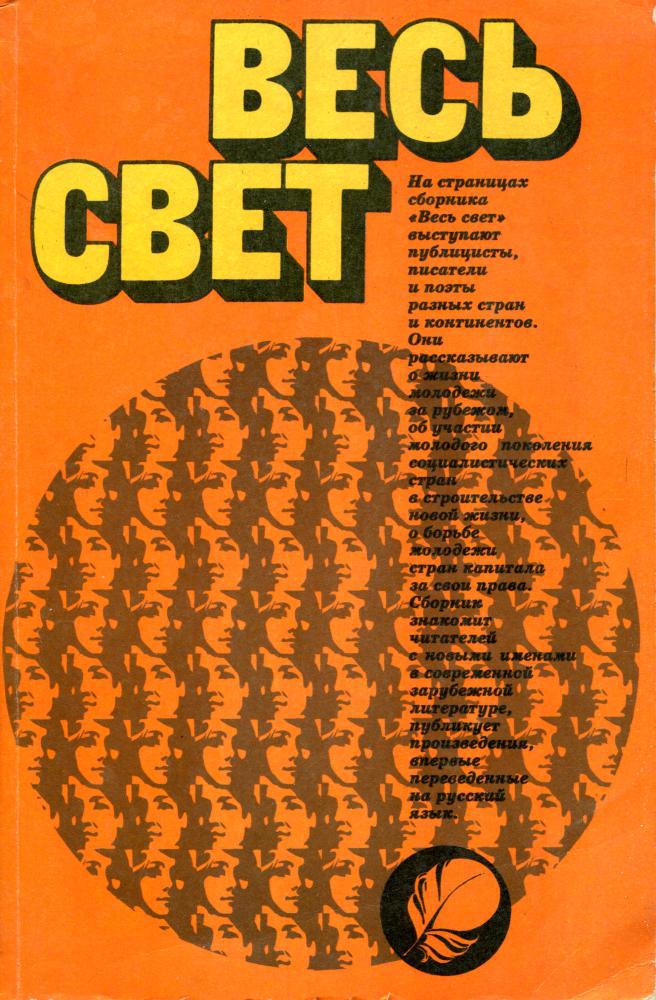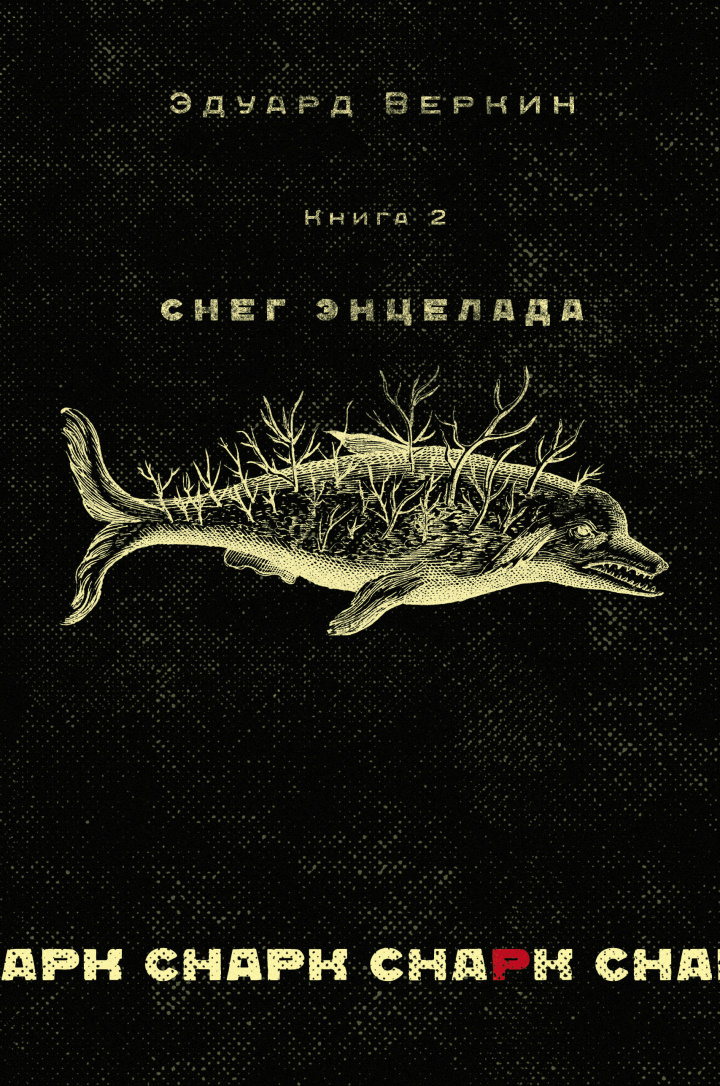class="p">— Похайлай еще! — грозяще проговорил он. — Постыдился бы — пожилого человека не пускаешь, участника войны, защищал тебя, гада!.. Человек стоял, номер на руке… покажите руку! — приказал он Евлампьеву.
Евлампьев, чувствуя себя так, словно его заставляют раздеться догола, снял перчатку и показал ладонь.
— И еше права качаешь! — сказал милиционер сто пятьдесят пятому.Проходи, отец, — повернулся он к Евлампьеву.
Евлампьев зашел, и дверь с визгом закрылась.
— Все! Все в порядке, отец! — сказал у него над головой со смешком голос, и Евлампьев увидел того высокого, с усами продавца в долгополом тулупе, он и закрыл дверь. — Иди выбирай. На любой вкус. Хошь — высокую, хошь — низкую. — Хошь — елку-палку.
Евлампьев медленно пошел в глубь базара. Он все еще чувствовал себя как раздевшийся догола. Надо же: «участник войны… защищал…» — нажал Хватков на все педали. Ладно, Героем Советского Союза не сделал…
Потом, когда он уже стоял в очереди к будке, кассы, возле которой закутанная во множество одежд, еле поворачивающаяся продавшица на глазок, не отнимая от стены высоко торчащего над крышей планки-метра, определяла длину елки и называла цену, выписывая квитанцию, к нему подошел милиционер.
— Ты, отец, это самос… ничего… не держи сердца, — как бы не оправдываясь, а приказывая, косноязычно проговорил он. — В горячке, сам понимаешь. Что деластся-то, видишь?! В горячке, отец, не почему другому… На войне-то тоже так, наверно, бывало, а?
— Бывало, — уводя в сторону глаза, сказал Евлампьесв. Ему было неловко и стыдно. Оттого стыдно, что теперь, когда тот, первый стыд, стыд унижения, прошел, он вдруг сделался как-то по-мальчишески радостно счастлив, что все-таки, несмотря ни на что, он здесь, попал, и елка в руках, кончились хождения, будет теперь праздник для Ксюши.
— На войне оно, наверно, не только так, а и похуже, наверно, еще бывало! — продолжил свою мысль милиционер и, стащив перчатку, протянул Евлампьеву руку. Он был молод, совсем немного за двадцать, — деревенский, наверно, парень, поступивший в милицию после армии из-за городской прописки. — В горячке, отец, из-за того только!
Елок Евлампьев взял три: на себя, Виссариона — как собирался, и на Хваткова. Он не помнил точно, что ему сказал Хватков, подойдя, не мог он тогда ничего упомнить — просто ли Хватков завернул сюда посмотреть на елочную торговлю или хотел покупать, — но на всякий случай решил взять и на него.
Пролезать в калитку с тремя да протискиваться потом через толпу было неудобно, тяжело — да просто не под силу Евлампьеву, он застрял у самого забора, но Хватков вовремя разглядел его, протолкался к калитке, принял две елки и вынес их на простор.
— Фу-у…— отдуваясь, выбрался к нему Евлампьев. — Ну, спасибо тебе! Не ты — так бы и остался ни с чем. — Он поправил свалившуюся на глаза шапку, засунул обратно под пальто вылезший шарф. — Тебе самому нужна елка? А то я, прости, не понял, не в том состоянии был.
— Да вообще-то нужна, конечно, как не нужна? — сказал Хватков. — Но вы не волнуйтесь, я без нее не останусь. Не куплю, так поеду и вырублю — дерите с меня штраф.
Евлампьев улыбнулся. Ну, Хватков! Хватков, он и есть Хватков…
— Давай без штрафа. Выбирай, какую себе?
— А, ё-моё, так вы и на меня сообразили? — обрадованно протянул Хватков. — Я уж потом думал: вот не сказал! Ну, спасибо, Емельян Аристархыч! Истинно: сделай хорошо другому, и будет хорошо тебе. В самом прямом смысле.
— Да, — засмеялся Евлампьев.— Возлюби ближнего, и ближний возлюбит тебя. — Он достал из кармана заготовленную для увязки бумажную бечевку и отдал один моток Хваткову: — Бери.
Бечевки он взял с запасом, ее вполне хватало на все три елки, они подвязали ею ветки, чтобы те не торчали, чтобы удобнее было нести, вскинули себе на плечи и пошли со двора на улицу.
— Пойдемте, я вас провожу, — сказал Хватков, когда они выбрались из двора и Евлампьев приостановился, чтобы попрощаться, — Хваткову отсюда было в другую сторону.
— Да по эдакому-то морозу?
Температура пала или еще ниже, перевалив за сорок, или это так чудилось теперь. после того как дело было сделано и что-то внутри как бы расслабилось, распустилось, но лицо уже не драло, оно уже потеряло такую чувствительность и лишь как бы ныло, зудело будто, и горло от каждого вдоха на мгновение словно бы обмораживало.
— А мне такой мороз нипочем,сказал Хватков. — Я привык. Как к норме. У нас там ползимы сорок да сорок. Пойдемте.
Они пошли, и Евлампьев спросил:
— Да, так а ты чего здесь? На Новый год прилетел?
— На какой Новый! — Хватков шумно вздохнул и крякнул. — Помните, тогда, летом, когда сидели у вас, говорил, что у меня срок кончается?
— А, ну да! — вспомнил Евлампьев.Ну да, ну да…И догадался, соединив в себе воспомннание о том полуночном разговоре на кухне и этот его кряк. — Что же, все? Насовсем? Решил все-таки?
— Черт знает, решил, не решил…сказал Хватков, снова шумно вздыхая. — В общем, не возобновил пока, вернулся. Помню, что вы мне говорили, все помню, не забыл… А вот не могу больше, парня возле себя чувствовать хочется, на лыжах с ним пойти, на рыбалку… А, думаю, надо попробовать! Три дня вот, как прнехал. Елку, говорю, не купил бы, сам в лесу б вырубил, хоть с меня штраф сдери. Что, ради красного словца, думаете? Нет, серьезно. Как на духу. Три года ему бабы мои елки не ставили! Что мы, говорят, как мы ее достанем — такие давки кругом! Ну, искусственную бы купили! Что ты, говорят, как можно искусственную, от нее не пахнет! А ребенку Новый год без елки — это можно?!
Он замолчал. и какое-то время они шли молча, У Евлампьева крутился на языке вопрос, что он думает делать дальше, куда поступать на работу, но он не решался заговорить сейчас с Хватковым первым.
— Вот так, — проговорил наконец Хватков, как бы подводя черту под сказанным, снова помолчал и протянул: — Да-а! А вы ж ее, жену-то мою, видели же! За мумиё-то ходили…
— Видел, ну да. Видел, — подтвердил Евлампьев, не понимая, в общем-то, ну, а и что, собственно из того, что видел.
— Ну