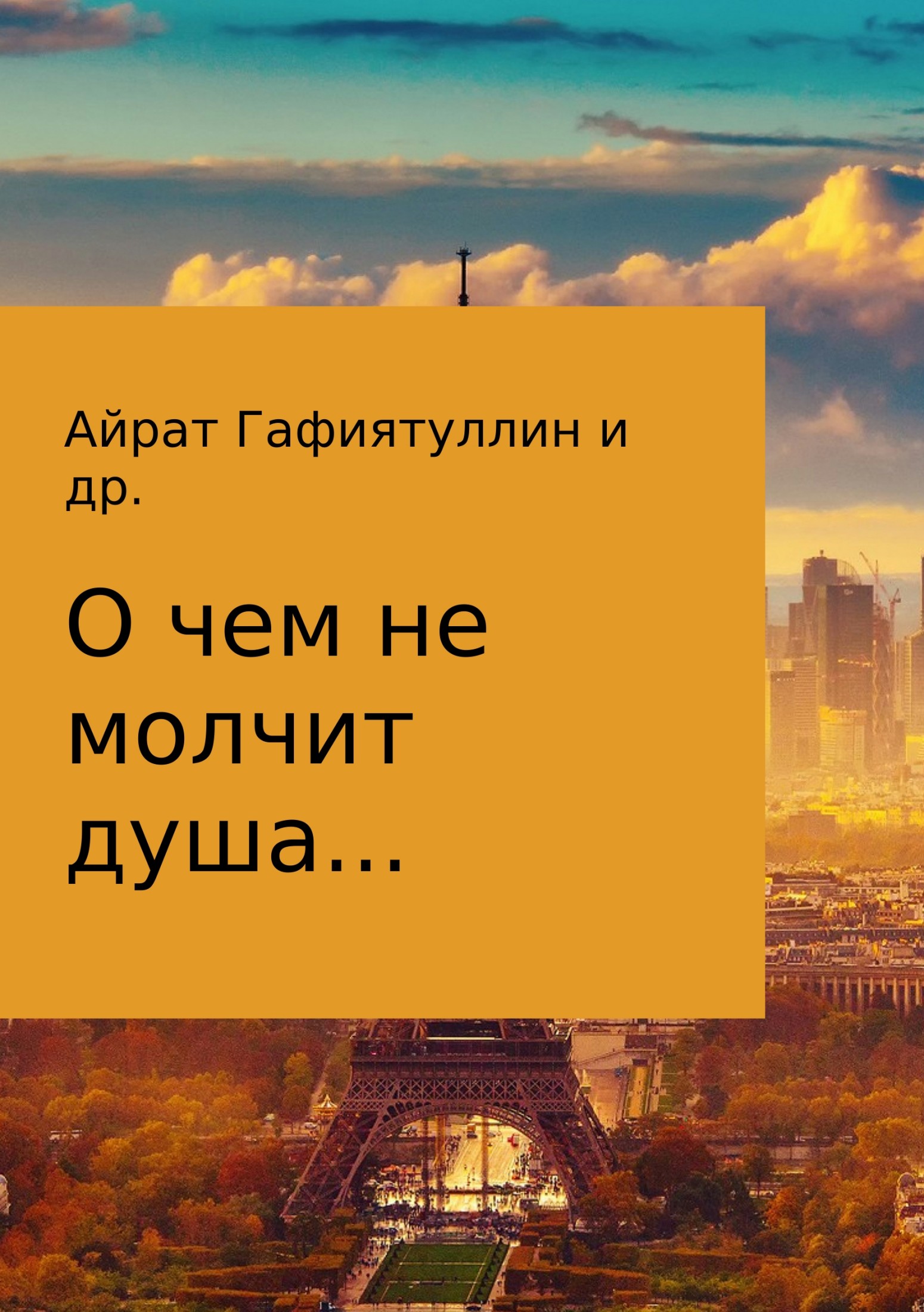красивых слов и красивых вещей, я бы давно умерла», – проговаривала я монолог в спектакле одного актера, который никто не увидит.
Я представляла себе комнату, в которой «дым табачный воздух выел». В ней мрачно, как на старинных картинах. На каком-нибудь древнем столике, источенном временем и насекомыми, стоял бы букет – в лучших традициях голландских мастеров: как символ бренности, а не украшение интерьера. Пусть это будут «Цветы в вазе» Яна Давидса де Хема, которые я уже никогда не увижу вживую в Эрмитаже. Мне нравилось, как там сочетаются полевые цветы с пышными розами. А еще еле заметная бабочка – такая трогательная и хрупкая, что, когда я впервые увидела эту картину в одном из Сашкиных альбомов, даже глаза заслезились. Тогда в описании я прочитала, что бабочка символизирует бессмертие души, но для меня она была олицетворением быстротечности жизни, еще быстрее, чем у цветов. Я завидовала бабочкам – в отличие от цветов и людей, они умирают так быстро, что никто и никогда не увидит их увядания. Вообще, я всегда мечтала жить у большой воды. Если не на берегу моря, «отгородившись высоченной дамбой», то хотя бы в Петербурге, где «туда, где моря блещет блюдо, сырой погонщик гнал устало Невы двугорбого верблюда».
Поэтому хотелось бы, чтобы из окна моей комнаты было видно и слышно воду. Что еще? Как всегда, когда у тебя спрашивают про любимые книгу/писателя/фильм, ты забываешь самое главное, я боялась не поймать всех светлячков, делавших жизнь не такой темной. Чтобы в комнате я была не одна, чтобы иногда «на озаренный потолок ложились тени, скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья». Но потом я вспомнила про горящую свечу, которую в анализах называют символом борьбы с вьюгой жизни: «бороться» это не про меня, уже не про меня. Извинилась перед Пастернаком и удалила его из своей комнаты. Да, наверное, я должна быть здесь одна. Да и Пастернак никогда не был моим любимым поэтом.
Себя в этой комнате я бы хотела представить как «Красную обнаженную» Модильяни или «Лежащую одалиску» Матисса. Но я была всего лишь потонувшей в детских обидах девочкой. Каким-нибудь персонажем из массовки картин соцреализма. Безликая малышка, потерявшая красный шарик, когда весь народ торжествует на демонстрации и упивается любовью к жизни. И вот все они обнимаются, смеются, пляшут, а девочка тянется к этому шарику и не понимает, почему никто не обращает на нее внимания.
Шарик давно улетел, девочке пора бы уже забыть о нем, побежать за сладкой ватой или стаканом «Буратино», но она все рыдает и рыдает. Перебирает в памяти, что же можно было сделать по-другому, как бы повернуть время вспять, и если не удержать шарик, то хотя бы насладиться моментом, когда он был у нее. Почему-то она не может вспомнить приятные ощущения, укрыться ими, как домашним пледом. Как будто и не было в ее жизни легкого шага с красивым и упругим шариком в руке. Как будто бы она не смотрела через него на солнце и на серый город, не видела хотя бы минуту жизнь в цвете мурлыкающей песни Эдит Пиаф. Да, она выделяется на этой картине. Но над ней посмеиваются: «Вот ведь чудачка! Весь город празднует, а она расстроена из-за шарика». Никто не хотел бы оказаться на ее месте. Утешить – возможно. Все, что она вызывает, – это лишь жалость. Почему-то мне казалось, что такая картина действительно есть. У Дейнеки или еще кого-то. Этого я уже не узнаю.
В груди опять начал разгораться пожар обид, но я даже заплакать не могла. Панически задыхалась, жмурилась, но слезы так и не потекли.
«Кажется, этот пожар не превратится в зарю…»
«Глупышка… Надо было просто выпрыгнуть из окна. Зачем продлевать муки жизни?! Но ведь ты рассуждаешь строчками и цитатами, да? “Как следует стреляться сгоряча: не в голову, а около плеча!”».
Я представила Сашку, который смеется над моей любовью к Бродскому, называя его попсовым, и снова отрубилась.
Очнувшись, посмотрела на полиэтиленовый пакетик из-под фруктов, валяющийся у кровати, и припомнила глупый факт, кажется, рассказанный маминой Розочкой: «Полиэтиленовый пакет в среднем используется около получаса, а разлагается 400 лет». И подумала, что даже вот этот бесполезный пакетик переживет меня на несколько сотен лет. Как глупо. Мне хотелось схватить и сжечь его, но сил встать не было. А его медузообразное тельце как будто бы посмеивалось надо мной. Иногда я проваливалась в сон, как мне казалось, на пару минут, не больше. И когда я открывала глаза, пакетик будто бы становился ближе.
«Выходит, не этот пакетик принадлежит мне, а я – ему. При его существовании еще не раз изменится мировой порядок, даже власть в России поменяется неоднократно. Может быть, вообще наступит апокалипсис, люди вымрут, а пакетик будет жить дальше».
Я истерично рассмеялась, подумав, что это идея для рассказа.
Живот скрутило с такой болью, что казалось, там внутри был кулак, который наматывал мои кишки, а они сопротивлялись. Он тянул их и тянул.
«Ну, рвани уже, пожалуйста! – мысленно умоляла я. – Пусть все закончится!»
Угасание сознания оказалось всего лишь сном. Проснувшись в предзакатном свете, я трусливо, но облегченно заметила, что все еще жива. Чтобы убедиться, что действительно существую, я проговаривала свое имя медленно, словно заново примеряя на себя. Не было никакого просветления, откровения – как-то быстро голову заполнили бытовые мысли: нужно ли выезжать из отеля или Адам оплатил его для меня, успеваю ли я еще на самолет, кому позвонить: Рите, Сашке, маме или, может быть, Ему?
Я так и не узнала, был ли оплачен номер. У меня не было денег – только на такси до аэропорта и недорогой перекус. Я боялась позвонить на ресепшен и спросить о продлении номера. Говорила себе, что, если бы он был не оплачен, меня бы уже давно выселили. А вдруг Адам просто продлил его, но не оплатил?
В одном из пьяных откровений он учил меня, как обращаться с деньгами:
– Не нужно их копить, Розочка. Просто трать их как в последний день жизни. Деньги – это поток. Им нужно движение. Вот сейчас мы промотаем их за неделю, а потом увидишь, как легко заработаем еще больше!
Я тогда ужаснулась:
– Как потратим все за неделю?!
Но он расхохотался, и я подумала, что это просто шутка. Сейчас я боялась – если номер не оплачен, мне придется звонить Ему, больше знакомых с деньгами у меня нет. Одна из первых вещей, которые я себе пообещала,