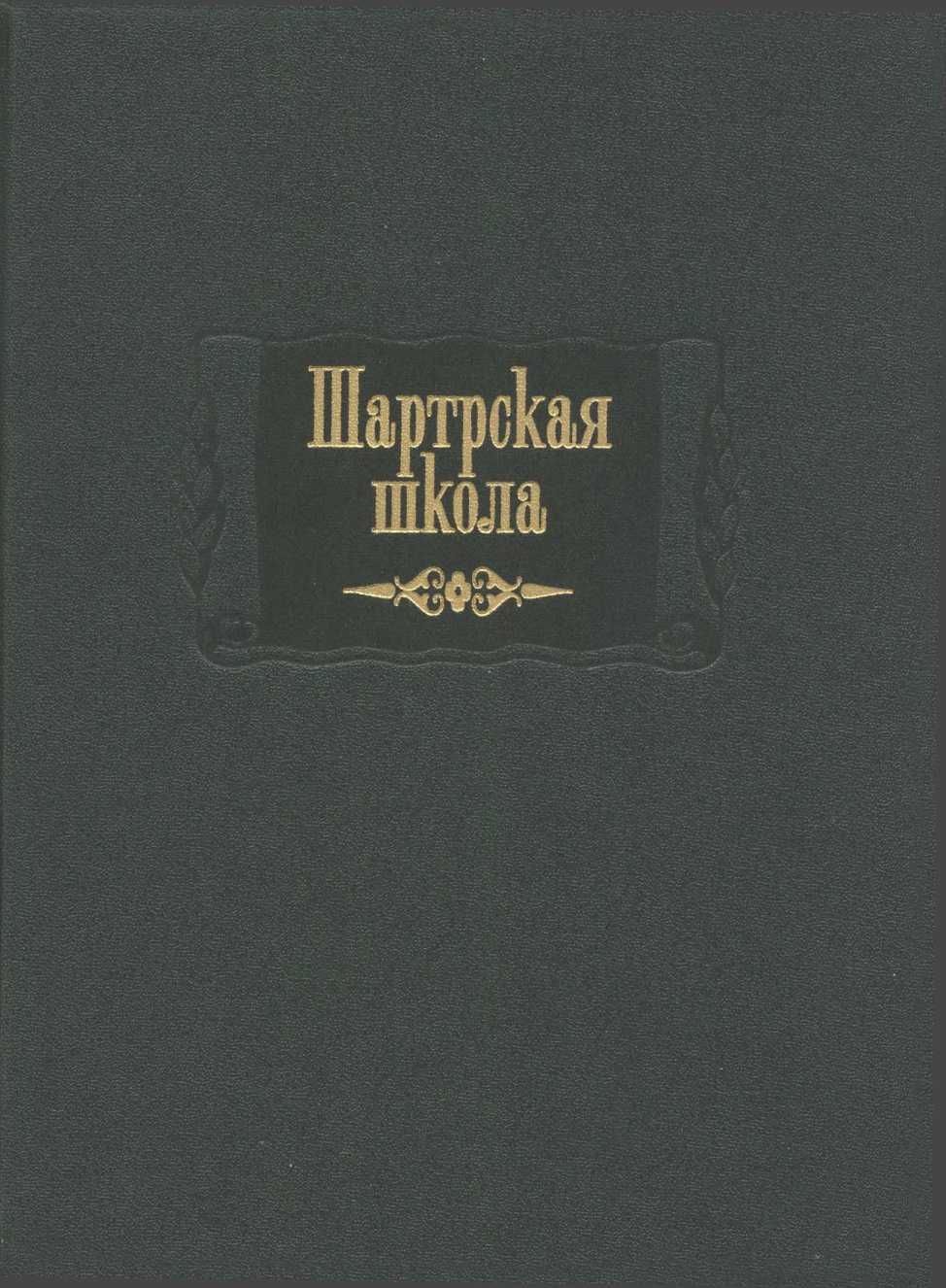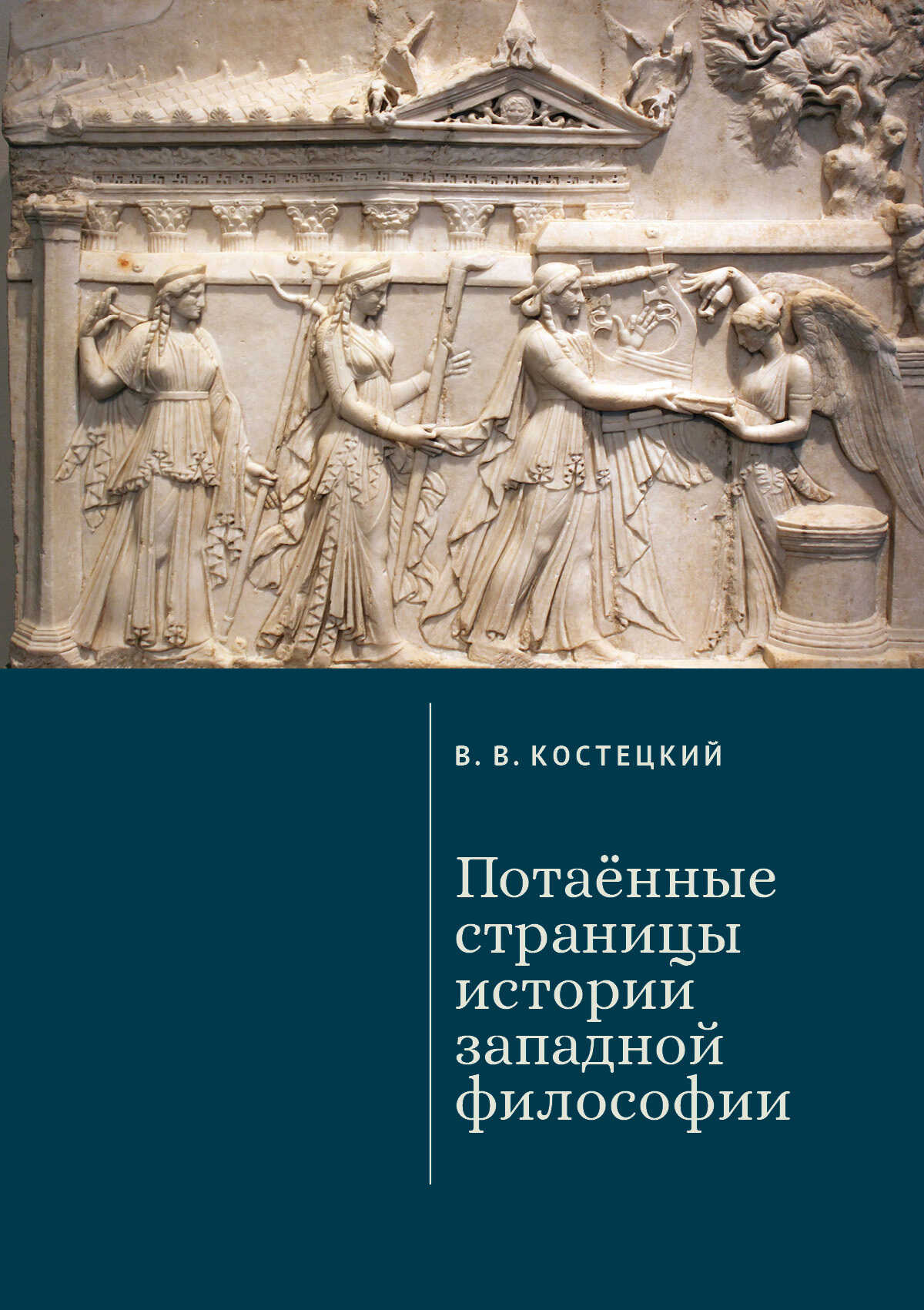противопоставлен какому-то другому миру, какому-то другому времени. Укиё-э есть искусство здесь и сейчас, которое утверждает это «здесь и сейчас» вопреки или скорее как раз в силу их мимолетности. Внутренней чертой укиё-э является эфемерность. Эмфатическое там не свойственно дальневосточному или японскому миру представления. Хайку тоже обращено всецело к здесь и сейчас. Ничто не намекает на там. Хайку не изображает ни прошедшее, ни скрытое. Оно полностью тут. Ему нечего скрывать. Ничто не отступает в глубину. Как и стиль укиё-э, хайку раскрашивает яркими красками поверхность. В этом состоит дружелюбность дальневосточного искусства.
И художники сильно тяготеющего к декоративности придворного искусства, и художники народно-плебейского стиля укиё-э сочли бы крайне странным следующее наблюдение Сезанна: «Через пару сотен лет станет совершенно бесполезно быть и жить; все станет плоским»98. Сезанн завершает беседу такими словами: «“Жизнь ужасна!” И как нисходящую вечернюю молитву я слышу, как он снова и снова бормочет: “Я хочу умереть, рисуя – умереть за рисованием”»99. Страсть Сезанна – характерно европейский феномен. Он понимает искусство как «своего рода священнодейство», «для которого нужны чистые люди»100. Искусство – это страсть. Оно предполагает, что страдание есть высшее бытийное состояние. Дальневосточное искусство не знает страсти и тоски. Театр кабуки, тесно связанный с живописью укиё-э, тоже утверждает жизнь с ее мимолетностью и изменчивостью. Кабуки исходно означает «легкость жизни»101.
В предисловии к «Разноцветным камням» Штифтер пишет: «Однажды в мой адрес высказали критику, что я изображаю лишь незначительное и что мои герои всегда всего лишь обыкновенные люди. Если это правда, то сегодня я могу предложить читателям еще более маленькое и незначительное, всякие безделушки для юных сердцем. В этих безделушках вовсе не обязательно запечатлена добродетель и нравственность, наоборот, они должны воздействовать лишь благодаря тому, что они есть»102. По Штифтеру, искусство – «нечто высокое и возвышенное». Поэт – «высокопоставленный жрец». А потому он и не претендует на то, что его писательский труд относится к искусству. Он не намерен «изображать великое или ничтожное». Поэтому свое письмо Штифтер помещает за пределами «стихосложения»: «Даже если не каждое сказанное слово окажется поэзией, все же оно может быть и чем-то другим, чем-то, что в своем существовании все-таки оправдано. Позволить моим друзьям-единомышленникам приятно провести часок, всем им – тем, кого знаю, тем, кого не знаю, – послать привет и привнести крупицу добра в дело созидания вечного – вот чего я хотел всегда и хочу сейчас». Эта необычная скромность, которая, вероятно, представляет собой тактический маневр, открывает перед Штифтером литературное пространство, в котором даже простое и повседневное получает теплый прием. Литература дает человеку просто «приятно провести часок». Письмо совершается не в солипсистском пространстве, не внутри одинокой души. Напротив, литература – это коммуникация, общество, игра, радость и удовольствие. По эту сторону «великого или мелкого» перед ней открывается обширное поле повседневного и привычного, которое ей предстоит освоить. Она располагается в имманентном. Избавившись от всякой идеологической и моральной надстройки, его сочинения «должны воздействовать лишь благодаря тому, что они есть». Резкое противопоставление серьезного и развлекательного, духа и чувственности сужает литературное пространство. Искусство повседневного расстается с искусством страсти, с искусством как священнодействием. Там, где угасает стремление к трансцендентному, имманентное сохраняет свой особый блеск. Имманентность есть законченный мир.
Не только искусство, но и религии Дальнего Востока настроены к существующему утвердительно. Даосизм учит, что нужно обнять фактичность мира, то есть то, что всегда уже заранее есть. Даосское недеяние – формула радикального утверждения. Оно противоположно деятельности как страсти. Мудрец полностью вверяет себя естественному ходу вещей. Не бегство от мира и не его отрицание, а доверие к миру – вот что движет даосской, дальневосточной мыслью. Утвердительное недеяние как открытость тому, что само собой происходит, умиротворенность – все это противоположно той интенциональности, которая отличает страсть.
Укиё-э коренится в буддийском представлении о мире. Согласно буддизму, мир изменчив и непостоянен как сновидение. Буддистское понятие «ничто» означает, что в мире нет ничего прочного, ничего устойчивого, что все утекает и исчезает. Напрасно поэтому пытаться что бы то ни было отстаивать, напрасно пытаться отыскать что-то неизменное. Чтобы освободиться, нужно как раз превзойти страсти и стремления. Укиё-э говорит миру «да», несмотря на его непостоянство и даже именно благодаря его непостоянству. Удовлетворение подразумевает утверждение. Этот способ говорить миру «да» отличается от того согласия, в котором критика культуры Адорно видит причину поддержания ложного мира. Адорно учит: «Быть удовлетворенным означает быть согласным»103.
Принятие мимолетности – характерная черта Дальнего Востока. Страсть к вечному и законченному ему чужда. Знаменитый китайский поэт Ли По пишет:
Жизнь в этом мимолетном мире подобна сну.Кто скажет, часто ли мы еще смеемся?Наши предки поэтому зажигали свечи, чтобы восславить ночь…104
Дзен-буддизм – дальневосточная версия буддизма – тоже является религией радикального принятия и тоже религией без страсти, пафоса и тоски. «День за днем – хороший день» – так гласит его простая освободительная формула. Место освобождения – это повседневность, повседневное здесь и сейчас, изменчивый мир, поскольку никакого иного мира, никакого внешнего, никакого там, никакой трансценденции не существует. Напрасна попытка вырваться из здесь и сейчас. К чему тогда страсть и тоска? Они лишь причина страдания. Повседневность дзен-буддизма является противоположностью страсти.
Хочешь сбежать? Боюсь, что сбежать от него не сумеешь.Снаружи мира и жизни ничего нет. Все полно и плотно.Страх с беспокойством не примирятся.Пряные ветры дуют отовсюду и осыпают цветами твою одежду105.
В противоположность христианству, которое предстает религией чаяния и обетования, то есть религией там и будущего, буддизм – это религия здесь и сейчас. Важно полностью оставаться в здесь и сейчас. Аскеза тоже не входит в число идеалов дзен-буддизма. «Ешь!» – так звучит знаменитое высказывание дзен-мастера по имени Юньмэнь106. У Линьцзи формула освобождения звучит так: «Когда мне голодно, я ем рис, когда мне хочется спать, я закрываю глаза. Глупцы посмеются, но мудрец поймет»107. Подчеркнуто повседневное существование уничтожает бытие как страсть. Как раз в этом повороте к повседневному, в этом характерном отходе от страсти в любой ее форме ради повседневного мира состоит дзен-буддийское освобождение, именуемое сатори. Принимая во внимание отсутствие всяких желаний, всякой тоски, сатори, которое нередко выражается в громком смехе, граничит с чистым весельем. Смехом оно изгоняет любую страсть: «Рассказывают, что мастер Юйшань однажды ночью залез на гору, взглянул на луну и разразился громогласным смехом. Его смех был слышен за тридцать километров в округе»108.
Моральное развлечение
Не может быть прекрасным то, что не вызывает в нас устойчивого чувства удовольствия, а устойчивое удовольствие нам может дать только истина, разум и моральный порядок.
«Старец», моральный еженедельник
Моральное удовольствие или моральное удовлетворение, согласно Канту, оказывается