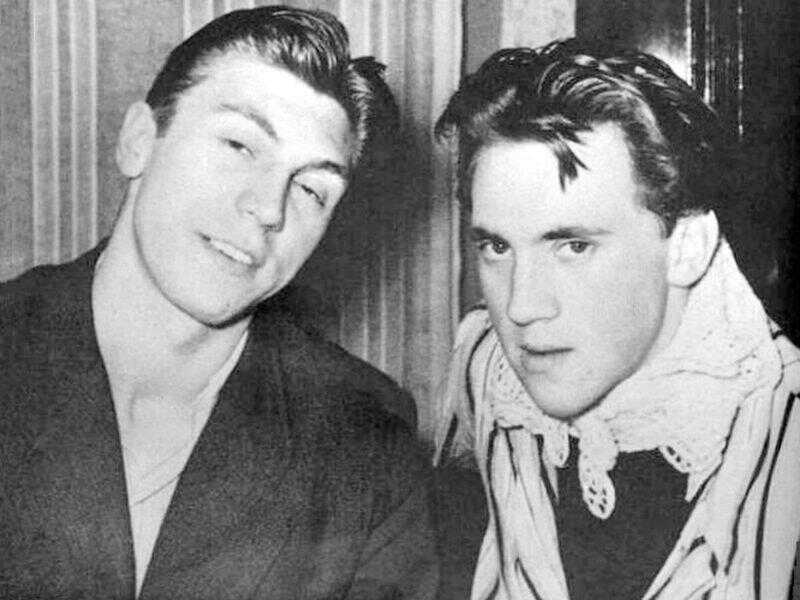я не пил, не пел,
Я на нее вовсю глядел,
Как смотрят дети,
Как смотрят дети.
И тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.
Потом были «Красное, зеленое, желтое, лиловое…», «А на нейтральной полосе цветы…» и еще многое другое. Я смотрел на него, наверно, квадратными глазами, в которых наверняка были восхищение, удивление и вроде бы догадка, потому что невольно вырвался вопрос:
— Это что… твои?
— А ты не слышал, Васёчек? Ну как же так! «Давно ты не был в свете», — сказал Володя нарочито шутливо, чтобы этим скрыть удовольствие, которое ему доставила моя радость в связи с услышанным.
Дело в том, что только Володя из всей нашей компании знал, что я пишу стихи и что даже печатался уже в многотиражке моего бывшего института, а стало быть, я, как никто другой в нашем кругу, могу по достоинству оценить то, что он написал. И Володя был искренне рад, увидев, как мне понравились его первые песни. А они были действительно хороши, ни на что не похожие (а время тогда было гитарно-песенное: уже вовсю распевали Булата Окуджаву и Александра Городницкого), неожиданные, остроумные, бесшабашно-веселые, в точности как тот, кто их придумал, написал, а теперь вот и пел.
Под впечатлением впервые услышанных мною Володиных песен я прожил все последующие дни. Впервые со мной происходило нечто, потом случавшееся не раз, когда я слышал, видел или читал такое, что не отпускало от себя, не отпускало подолгу. Меня словно что-то подстегивало, словно упрекало: «Что же ты сидишь, бездельник? Посмотри, как другие вкалывают, а ты баклуши бьешь». Короче, мне безумно захотелось написать песню, притом такую, чтобы она понравилась всем нашим. И в первую очередь — Володе.
…А листья под окнами почти опали. Недавно еще горели, особенно на кленах, каким-то невероятным пламенем, и вот их почти нет. Столь же невероятной казалась мне в ту осень встреча с Леной, которую Володя сразу же назвал Марокканкой — за смуглый цвет кожи и иссиня-черные волосы короткой мальчишеской прически. Она и стала героиней уже брезживших во мне стихов. Я сел и, по-моему, за полчаса написал:
Клены выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
Это снова, это снова
Бабье лето, бабье лето.
…………………………………………….
Я кружу напропалую
С самой ветреной из женщин…
Я давно искал такую —
И не больше, и не меньше.
Мелодия к стихам родилась без особого труда.
На следующий вечер собрались у меня. Шум, гам, анекдоты. Наконец Володя взял гитару. Кажется, у него тогда было уже песен пятнадцать. Пел и еще какие-то, не свои. Где-то через час решил сделать «передых», как он говорил. Я как бы между прочим потянулся за гитарой, мол, настал и мой черед.
Запел как можно спокойнее, задавая себе четкий ритм. Окончил. Тишина. После паузы Артур Макаров, пользовавшийся репутацией нашего домашнего мэтра, лукаво-одобряюще сказал: «Давай еще раз». Я понял, что песня получилась, она понравилась.
Вскоре «Бабье лето» стало у нас чуть ли не своеобразным гимном. И Володя часто пел его, не давая этого сделать мне, что было своего рода признанием песни с его стороны.
А однажды на одном своем концерте, вроде бы в Тбилиси, он в кураже сказал, что помог мне написать мелодию к моему «Бабьему лету». Я совершенно случайно услышал запись этого выступления у кого-то из знакомых. Позвонил Володе и говорю:
— Васёчек, как это ты помог мне написать музычку к моей песнюшке?
— Васёчек, извини Христа ради. Бес попутал. Но ты не представляешь, что можно иногда ляпнуть со сцены ради красного словца. Кстати, мне недавно пришло извещение из ВААПа (Всесоюзного агентства по охране авторских прав), чтоб я зарегистрировал эту песню. Давай поедем туда вместе, и я при тебе на этом бланке напишу, что музыка «Бабьего лета» не моя, а твоя.
Так и сделали. Мне выдали копию его расписки, которая через много лет, уже после Володиного ухода, помогла решить одну спорную ситуацию. (На одном диске с концертом Высоцкого в перечне им исполненных песен значилось и «Бабье лето», но было указано, что стихи мои, а музыка В.Высоцкого. Я позвонил его сыну Никите, он был не в курсе дела, а узнав истину, очень передо мной извинялся.) Но все это будет потом. А тогда…
Итак, Володя стал писать, притом лихорадочно, запойно, иногда чуть ли не каждую неделю он показывал нам что-то новое. Наши «посиделки» стали еще интереснее. Он любил веселить людей, потому что сам был удивительно, фантастично веселым человеком, который словно нашел наконец выход своему остроумию и юмору, выплескивая их в свои песни.
Почему же «блатная» романтика, а не что-то другое, скажем лирика, как у Булата Окуджавы (о котором, кстати, я и Володя услышали чуть позже, где-то в конце 62-го), питали темы первых его песен?
Ну, во-первых, потому, что и у Булата Окуджавы, и у Александра Городницкого, и, скажем, у Новеллы Матвеевой всё сразу было всерьез. У Володи же всё в шутку, всё на хохме — и ухарство, и бравада, и якобы устрашающая поза («Я в деле, и со мною нож, и в этот миг меня не трожь, а после я всегда иду в кабак»). Все это было несерьезно, все это игра и бесшабашность повесы. Ну а для всего этого «блатная» тематика — материал, пожалуй, самый благодатный.
Во-вторых. Я уже говорил о том, что мы пели до появления Володиных песен, и написанные им стали теперь своеобразным продолжением тех, предыдущих. Почему мы пели такие песни, а не другие? Да потому что они были тем запретным плодом, который всегда сладок. И еще — в них не было тех муляжных героев с их занудным бодрячеством и штампованным переживанием, которыми кишмя кишели песни эстрады и эфира и уже одним этим отталкивали от себя.
Отчего же, увлекаясь Вертинским, не пошел Володя, условно говоря, в его русле? Да потому что Володины остроумие и эпатаж были попросту несовместимы с образной и стилевой системой печального Пьеро.
Ну и в-третьих. Какой жизненный опыт был у 23-летнего актера, бывшего дворового пацана, чтобы подсказать ему более «благородную» тематику? Что видел он в жизни? Говоря словами И.Бабеля, «пару пустяков»: школу и вуз.
И конечно, не следует забывать, что Володя был актер. Игра была для него