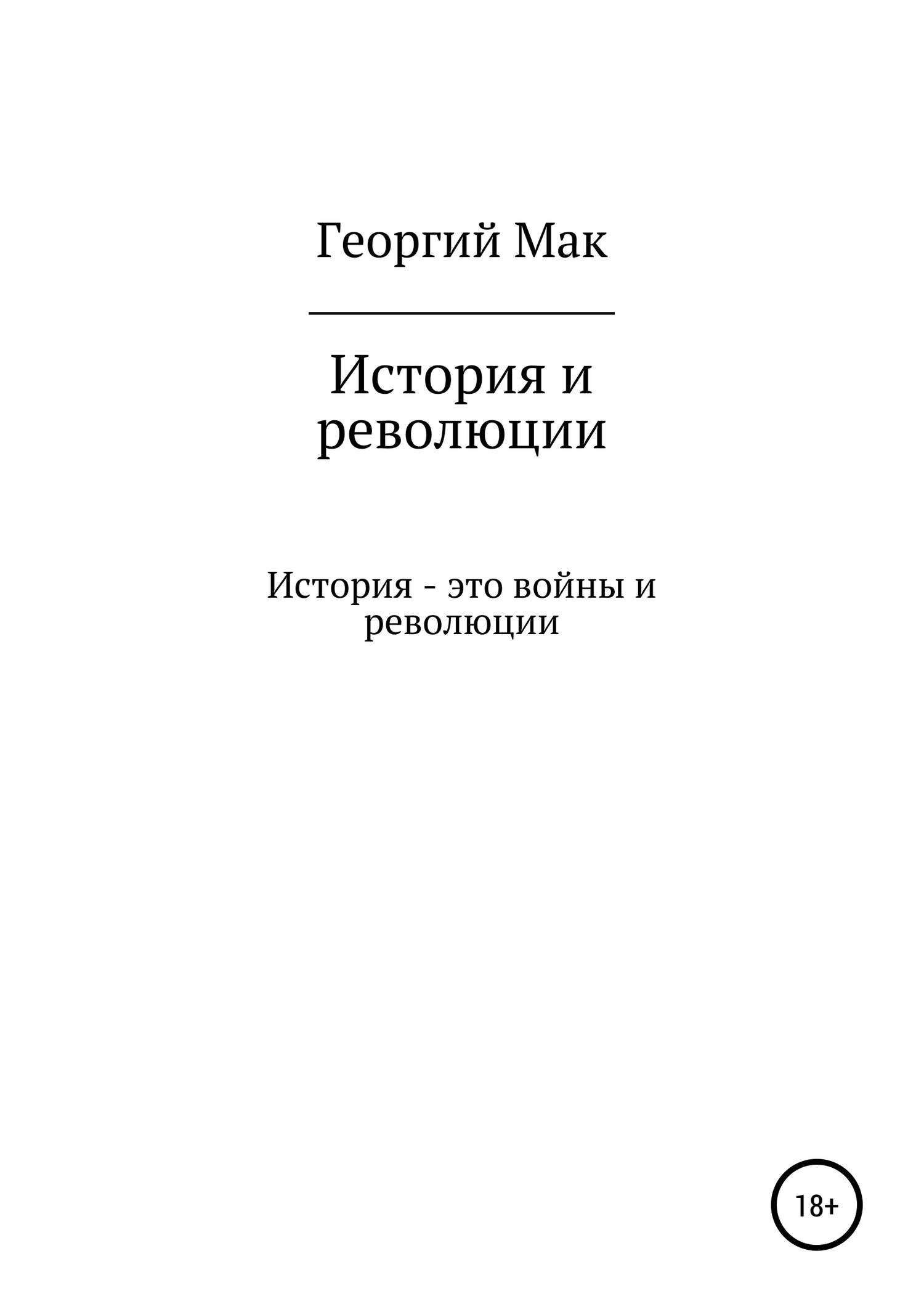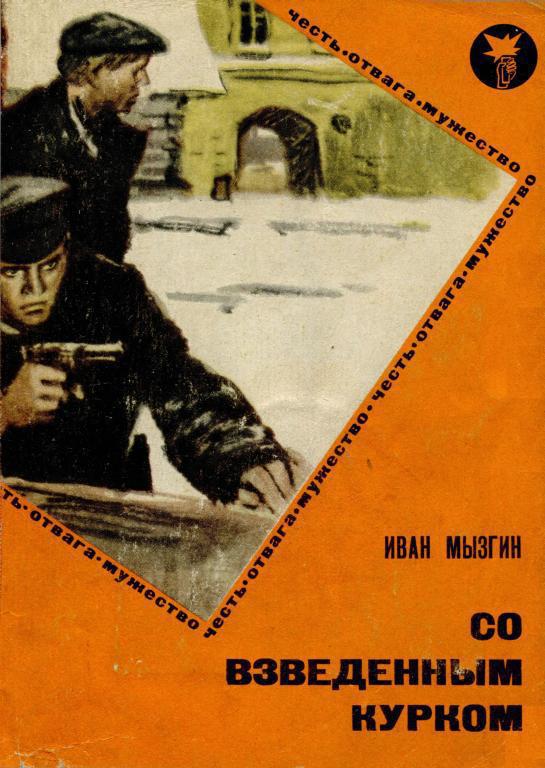в учебник, чтобы запомнить заданный урок. Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные, поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу. Другие – бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем своим жалким видом взывая к товарищеской помощи. Вдруг Алехин стремительно встает и с сияющим лицом молча обводит класс глазами и в тоже время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок своих мочальных волос, сбившихся на лоб.
«Ну, что, Алехин, решили?», – спрашивает его преподаватель Бачинский.
«Решил… я жертвую коня, а слон ходит … и белые выигрывают!»
Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда сдержанный и корректный Бачинский.
У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к самым различным общественным группам московского населения. Были купцы: Морозов и Прохоров; аристократы: Долгорукие и Бобринские. Дети профессоров и адвокатов – Шершеневич, Гартунг; представители революционной интеллигенции – Лобачев и Клопотович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень состоятельных родителей. Отец – крупный землевладелец Воронежской губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого знаменитого шахматиста не было во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика, ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может быть, сына бухгалтера или мелкого торговца.
Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую фамилию. Так, когда наш «батюшка» о. Розанов, вызывая Алехина отвечать урок по «закону божию», постоянно называл его – «Олёхиным», с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».
К концу учебного года у меня с Алехиным отношения обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы делиться повседневными мелочами нашего школьного быта и обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же, безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за «жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к Алехину и получить их от него было крайне трудно, и мне приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на протяжении целого года, то давала мне основание считать ее проявлением злой воли. Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий товарищ. Я не помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел, чтобы он читал какую-нибудь книгу. А между тем, многие из нас зачитывались сборниками «Знания», где печатались Горький, Л. Андреев, Вересаев, Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцибашева, Амфитеатрова. Увлекались «Паном» Гамсуна, Ибсеном, Шницлером. Конечно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.
Были у нас и восторженные почитатели Большого Театра, Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке Шаляпина на гастроли в Италию, и о многом другом. Завидовали тем, кто носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую шапку – лодочкой – как Качалов. Были такие ученики, у которых в ранце было больше фотографий балерин, чем учебников…
Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому, должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот концерт организовала семья С.Г. Аксакова[7], внука писателя, сыновья которого учились в нашем классе.
Не писал Алехин и писем Л.Н. Толстому с просьбой разрешить вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоящих на пороге мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназического зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии, словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену, погибшие в общественном мнении ученики, наспех жадно глотали дым папирос, при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув на них, и может быть, и не заметив их.
Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не могла оставаться равнодушной к переживаемым страной революционный событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы, занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам, гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе событий. Так мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете, мать его – известная общественная деятельница В.Н. Бобринская, заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали, что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из «черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и построиться. Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под полы наш знакомый художник Б.Н. Липкин. И, наконец, все же я достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик, который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но покалечить, особенно себя, было не трудно. И стоил он … один рубль 50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участие в первой русской революции. На углу нашего Никольского переулка и Сивцева-Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка Д.Н. Ушаков[8], а позднее и профессор консерватории К.Н. Игумнов, появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее продавец из угловой москательной лавки.
Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем, несколько