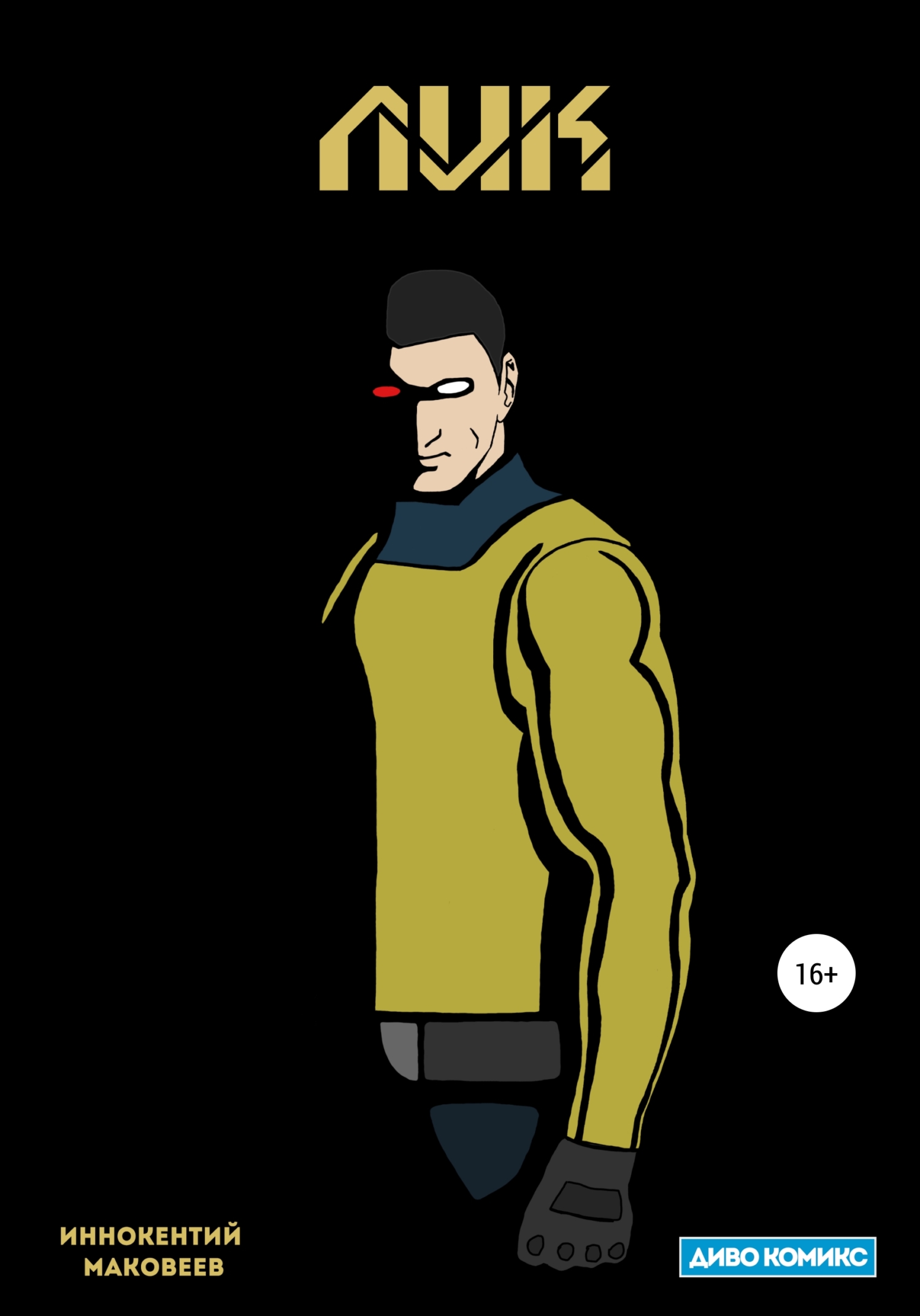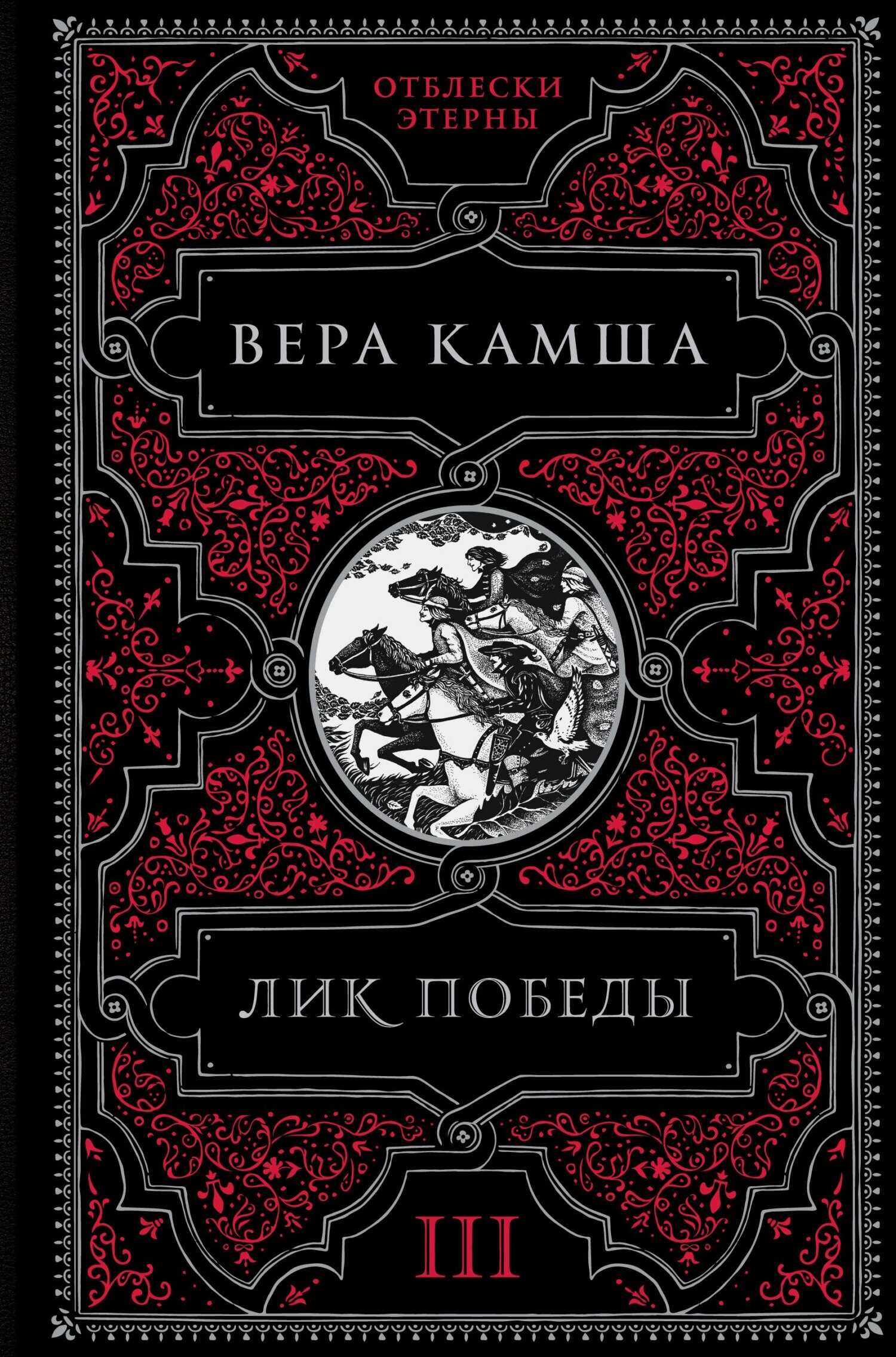мне и нашему будущему. Сейчас я понимаю, что принимал решение своим рациональным техническим умом, просчитывая формулами то, что просчитать на самом деле невозможно. То, что можно только почувствовать. Но я был глуп, слеп и глух в отношении чувств. Избегал их, уклонялся, прятался за томами книг. В моей жизни не существовало приоритета выше, чем наука, формулы и практичность. А чувства, скорее, казались побочным эффектом, ошибкой в программе, помехой в реализации потенциала (хотя что я тогда вообще знал о потенциале и его реализации). Еще раз повторюсь: я был крайне глуп. В свое оправдание хочу заметить, что увидеть что-то возможно, только прозрев, ну а почувствовать – наверное, только отказавшись от рационального, от смысла. Но все по порядку.
Мария, моя жена, была совершенством в категории «самая подходящая супруга», поэтому мой выбор в свое время однозначно пал на нее. Да, это была не любовь, а необходимость, о которой твердили все мои близкие. Родители заждались внуков, коллеги и руководство настаивали на теории «совершенной ячейки общества», а друзья уже давно были связаны узами брака и никак не могли смириться с моим гордым одиночеством.
Так что к сорока одному году, помимо научной карьеры, у меня был положительный семейный статус: я, Мари и новая единица общества, наш четырехлетний сын.
Так вот, в ту прекрасную незабываемую осень, когда все вокруг уже покрылось золотой пылью, я получил заманчивое предложение поучаствовать в съезде ученых и поделиться своим опытом внедрения науки в производственные процессы. Эта поездка предвещала неделю шумных дебатов, жарких споров и хорошего виски в компании таких же помешанных на науке самолюбивых педантов. Да, мы были именно такими: высокомерными, эгоцентричными, накрахмаленными белыми воротничками, полагающими, что знаем не только все тайны Вселенной, но и секреты управления ею. Просто гордецы, которым нужно постоянно доказывать окружающим (или скорее себе) свое превосходство, чтобы не захлебнуться пылью книг, которой мы дышали изо дня в день в своих тесных кабинетах.
Мари собрала мне наглаженные костюмы, ровными стопками уложила в коричневый кожаный чемодан носки и майки, в угол аккуратно поместила сумку с туалетными принадлежностями. Я же смотрел в зеркало на высокого, подтянутого мужчину в длинном бежевом плаще, костюме-тройке из коричневого твида и начищенных до блеска темно-коричневых туфлях. Как же я любил эти удобные туфли из мягкой качественной кожи. Таких давно уже не делают, несмотря на прогрессивность современного общества. Все гоняются только за внешним видом и прибылью. Позор, да и только! Ведь раньше ценили качество и репутацию. А тот идеально пошитый твидовый костюм – поди поищи сейчас что-то хоть отдаленно похожее. Ставлю всю пенсию на то, что ни за что не отыщете.
Я застегнул чемодан, взял его и портфель со своими наработками и направился к выходу. Мари покорно пошла за мной, в коридоре подхватила на руки сына и с печальным видом отыграла прощальную сцену. Я никогда не был с ней нежен или ласков. Все мои действия были формальностью, отточенной формулой, которую усвоил из детства, из прочитанных книг и выходивших тогда на экран фильмов. Я был классическим хорошим мужем, игравшим свою роль по установленным правилам. Да и семья у нас была «правильная». Я был тогда уверен, что мы счастливы, счастливы так, как это описано и показано в образцах, так, как могут быть счастливы члены каждой порядочной и правильной семьи.
Сейчас я понимаю, что наша семейная жизнь с Мари являла собой изначально неверно составленную комбинацию. Она никогда не привела бы к результату, которого мы все достойны и о котором искренне мечтаем. И знаете почему? Просто в ней не было основного компонента, главной составляющей – я не любил.
Спустя сорок лет с той осени я понимаю, что мой выбор супруги был погрешностью, отклонением от самого коренного смысла семьи, от истинного значения этого слова. Я уверен, Мари тоже никогда не была со мной счастлива. Почему тогда она играла в мою игру, участвовала в моем уравнении? Не знаю и уже никогда не узнаю. Возможно, она любила меня, и химические реакции в ее голове не позволяли ей мыслить здраво, а готовили воздушные торты и пироги из надежд и ожиданий. Или, может, она так же, как и я, составила неправильное уравнение, лишенное главного знаменателя.
Я поцеловал ее и нашего сына и сказал на прощание:
– Не скучайте без меня.
– Постараемся. Береги себя, Иосиф, – с обреченностью в голосе произнесла Мари.
– Люблю вас, – добавил я по наитию и вышел в новую жизнь.
Так странно. Наша память – сложный, непостижимый механизм. Я помню те дни сорокалетней давности настолько детально и красочно, словно все это было только вчера. Как будто этот период отдельным островом укоренился в океане моих воспоминаний. Я не смогу рассказать о том, что ел сегодня на завтрак, хотя точно знаю ежедневное меню в моем последнем пристанище – доме престарелых, но стоит мне закрыть глаза – и на экране появляются картинки с пленки той переломной осени.
Я неспешно доехал до железнодорожной станции и нашел нужную платформу, которая впоследствии оказалась для меня не менее волшебной, чем 9¾, попасть на которую мечтают сейчас все подростки мира (и да, я тоже смотрел этот фильм! [1]). Зашел в стоящий на путях поезд, который в скором времени должен был помчаться в нужном мне направлении, разместился в купе. Спустя шесть часов мне предстояло ступить на улицы города, ежегодно принимавшего ученых со всей страны. Моим соседом по купе оказался молодой научный сотрудник с факультета самолетостроения, одетый в неряшливый голубой свитер, натянутый на рубашку, и потертые, заношенные брюки. Парень ехал туда же, куда и я. Его молодое лицо старили огромные круглые очки с толстыми линзами. Он говорил спешно, прерывисто и постоянно поправлял сползающие окуляры. Мне даже показалось, что очки – скорее атрибут его театрально-научного имиджа, нежели средство для улучшения зрения. В мыслях крутились подозрения, что он надевает свои очки вместо галстука для придания себе – бесхребетному и бестелесному физику – хоть какой-то весомости. Или же они – якорь, удерживающий болтающуюся от ветра лодку в водах научного мира. Словно без них его подхватит научная невесомость, и он потеряется в пространстве. И все же спросить о значении окуляров я не решился. Чувство такта во мне всегда (ну или почти всегда) пересиливало интерес и цинизм, но это только по отношению к людям, а не к науке. Там я вгрызался в камень, дробил гипотезы и уничтожал несоответствия со всем своим энтузиазмом.