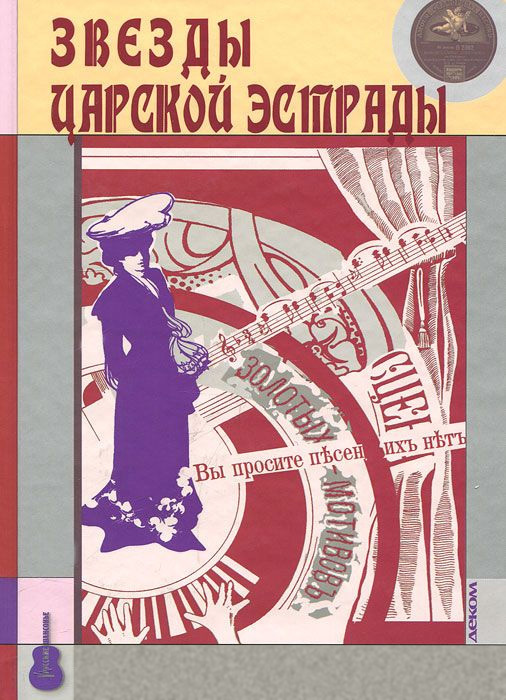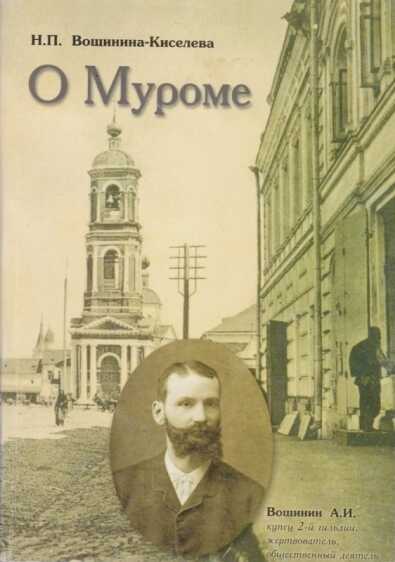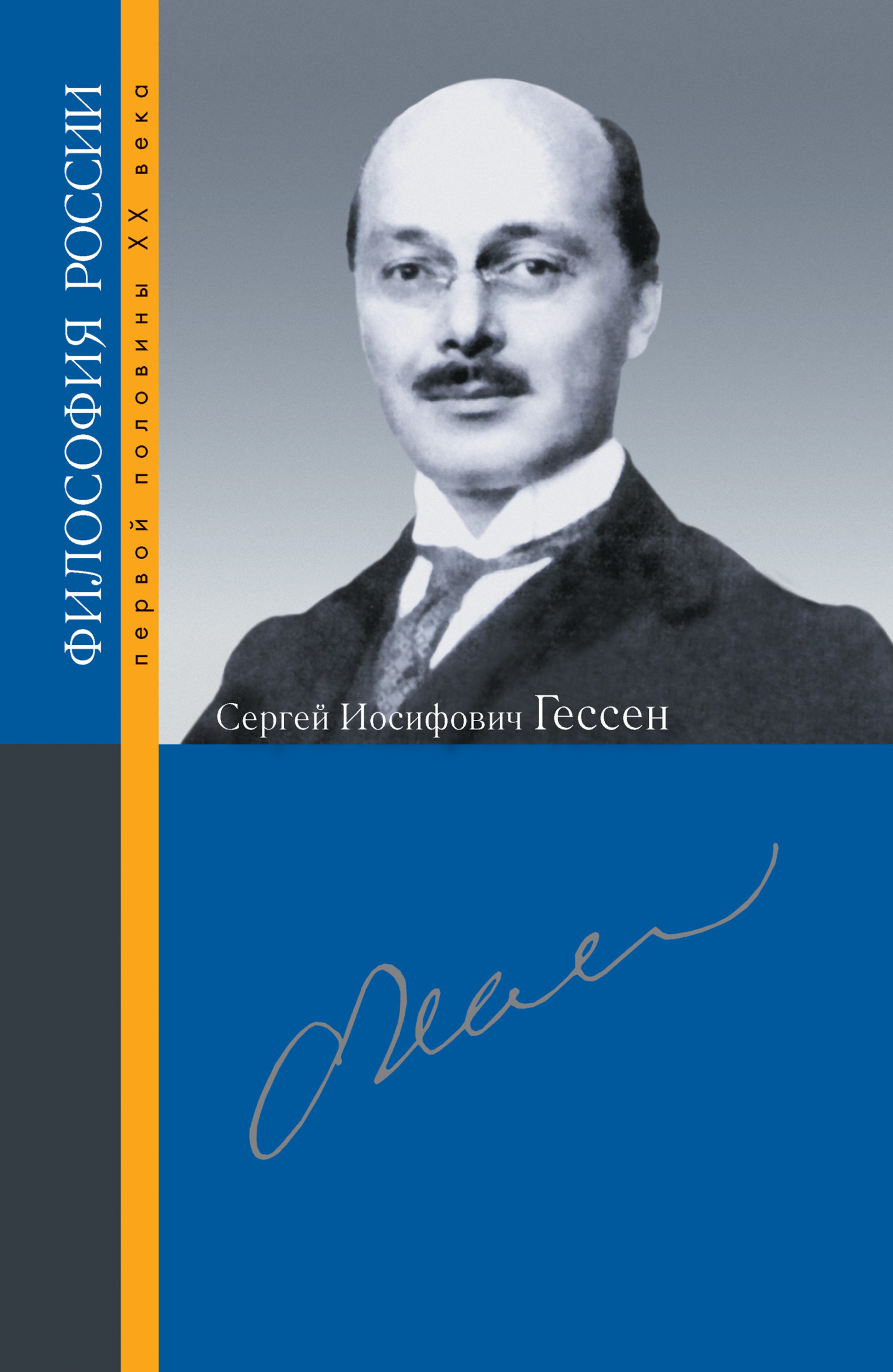идет кругом церкви. Снаружи, у запертых дверей, послышался возглас батюшки:
– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…
Ликующе понеслось в ответ:
– Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
– Яко исчезает дым, да исчезнет.
– Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ… – ликовало уже в храме.
Вспыхнула, побежала огненная змейка, зажглось паникадило, ярче засверкала белая риза священника. Лица озарены, улыбаются: все отошло – горе и злоба.
Отдыхает душа.
Крестом, убранным цветами, священник осеняет молящихся.
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе, воистину…
Крепко живет во мне память о светлых днях милого детства. И крепка во мне вера, данная моей безграмотной матерью. Мать, да будет благословенно имя твое. Сокровище, завещанное тобой, я не потеряла и здесь, на чужбине. Оно дает мне силы сносить горечи обид, дает надежду дождаться светлого будущего…
* * *
Еще я спала, а Машутка уже прибежала за мной звать на качели. Доносились из-за перегородки голоса сестер и подруг: Домочки, сестры Якушки, и Параши Куликовой, старшей Машуткиной сестры.
Они наряжались к улице. Домочка тревожно тараторила:
– Пришли ребята богдановские и заверские с гармошкой, а наши говорят, пусть они только попляшут, мы им ноги-то поломаем, к нашим девкам дорогу забудут, у них свои есть, мы к ихним не ходим… Ой, боюсь, девоньки, Якушка будет задираться, озорной он, настырный…
Дальше я не слушала – убежала на качели.
А там недотолпное.
Ребята качают девок, а Калиныч, парень заверский, разливается на гармонии. Ну и пригож Калиныч: на картузе, над правым ухом, павлинье перо, рубаха красная, вышитая и суконная поддевка нараспашку. Девки на него заглядываются, наши ребята хмурятся.
Я давно слышала, что наши парни не любят заверских и богдановских и обзывают их «хамами». А потому они «хамы», объяснила мне мать, что богдановские – бывшие крепостные помещика Богданова, то же и заверские, вот и называются «хамы», а мы, винниковцы, были всегда государственные, не барские.
Не любили винниковские ребята, когда «хамы» приходили к нам «хварсить» перед девками. И нагнало грозу: Якушка под чужую гармошку не пляшет, а Иван Алешин прямо обещает гармонию Калинычу разбить.
– Ишь, хамова, ястреба, куражится! – свирепо плюнул Иван, повернул от качелей, а за ним ребята. А девки те пляшут, они рады гостям: качаются, играют в горелки.
У меня подруг много, и мы завели свои игры около мельницы. Играли в «селезня»: становились все в круг, брались за руки, «утка» ходила по кругу, а «селезень» за кругом. Селезень утицу старался поймать, «ворота» ему закрывали, пели:
Селезень утку гоняет,
Молодой серую загоняет:
Пойди, утица, домой,
Пойди, серая, домой,
У тебя семеро детей,
Девятая утка:
Шутка Машутка,
Селезень Васютка,
Кочет Ивашка,
Курица Парашка.
Селезень утку загоняет,
Молодой серую загонял…
Играли еще в «коршуна», в «пашню»… И вдруг донеслись от качелей испуганные крики. Я побежала туда, а сестра Маша, бледная от испуга, схватила меня за руку:
– Пойдем, Дёжка, домой. Иван Калинычу гармонию разбил, Якушка и наш Колька ему помогали. У Николая рубаха разорвана, он пьяным-пьян. Его домой повели. Достанется Николаю от тятечки.
* * *
В избе отец сидел туча тучей. Он уже видал Николая, ни слова ему не сказал – что с пьяным говорить. А мать горевала:
– Малому девятнадцать лет и никогда не пил. А все приятели.
– Я вот покажу ему завтра приятелей, молокососу, – грозно сказал отец.
Когда Николай проспался, отец поговорил с ним сурово, а чтобы ему неповадно было в другой раз напиваться, да еще в Светлый Праздник, выгнал Николая из дому, чтобы ноги его не было.
Ой, никогда не был отец таким страшным. Мы тайком носили брату обед и с нетерпением ждали, когда отец его простит.
И вот среди ночи нас разбудил стук в дверь.
– Кто там? – спросил отец.
– Тятечка, это я, – послышался дрожащий голос брата. – Я пришел сказать – только что шел я через погост мимо могилы Костика, сторожа церковного, которого вчерась схоронили, а он в могиле стучит.
– Мели, Емеля, твоя неделя, – засмеялся отец.
Но Николай уверял, что он всех соседей разбудил, и они тоже слышали, как покойник стучит.
Отец велел ему ложиться спать и мертвецов по ночам не беспокоить.
Не знаю я, стучал ли покойник, или брат это выдумал, чтобы вернуться домой, но напугалась сильно. Спряталась к матери под мышку и не засыпала от страха всю ночь: как бы Костик с погоста к нам не пришел. Погост-то близко, напротив…
* * *
Светят-мелькают вешние дни. Уже расцвела и зеленеет весна, наша желанная гостья.
Березка, гордость матери, доверчиво распустила под окном свои длинные зеленые кудри. Если бы она знала, как с разбега будут качаться ребята на ее зеленых кудрях, не опустила бы их так низко к земле.
Под березкой сидят сестры, Домочка, а с ними молодайка Татьяна. Они белят холст: мочат его в кадке со щелоком и расстилают по зеленой траве. Холсты сохнут на солнце, а Татьяна вышивает первенцу своему чепчики и рубашечки, девушки себе приданое, и все поют:
И водица лилеет, трава зеленеет,
Сады расцветают, соловьи распевают,
Кукушки кукуют: у кукушки нет дружки…
Издали, с огорода, слушаю я пение: я караулю огород с коноплей.
Только успею прогнать воробьев, как сядут вороны, прогоню ворон, а петух уж сзывает кур: «Пожалуйте, мол, конопли вкусной откушать».
Я бегаю из конца в конец по огороду, кричу:
– Тучу, тучу!
Пернатые воры особенно нахальны ясным утром: они вовсе не боятся моего помощника – Чучела, которое я смастерила на страх врагам из тряпья, с растопыренными руками и с трубкой в зубах.
Воробьи надо мной просто смеются: усядутся на голову пугала и оживленно чирикают. Ну что тут поделаешь? Только и жду, когда конопля взойдет.
А тут еще забота: у меня за сараем сад, и растут в том садочке мята, заря, ноготки да подсолнухи.
Там изгородь нужно поправить, летось я сама забила колушки, заплела плетень, да осенью мерин Потапа Антоныча мой плетень завалил. А во всем виноват Якушка: мерин ушел из конюшни в бурьян, а Якушке и горя мало – знай посвистывает, пока Потап Антоныч не хватился.
– Якушка, идол медной, ты что же это мерина упустил? Загоняй, подъясельный, скорей. Прямо не узнать скотины.
И впрямь, у мерина черная грива и хвост от репьев и татарок сбились в серый колтун.