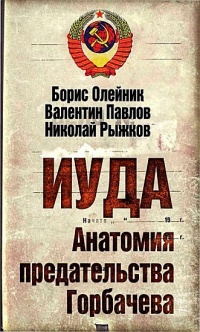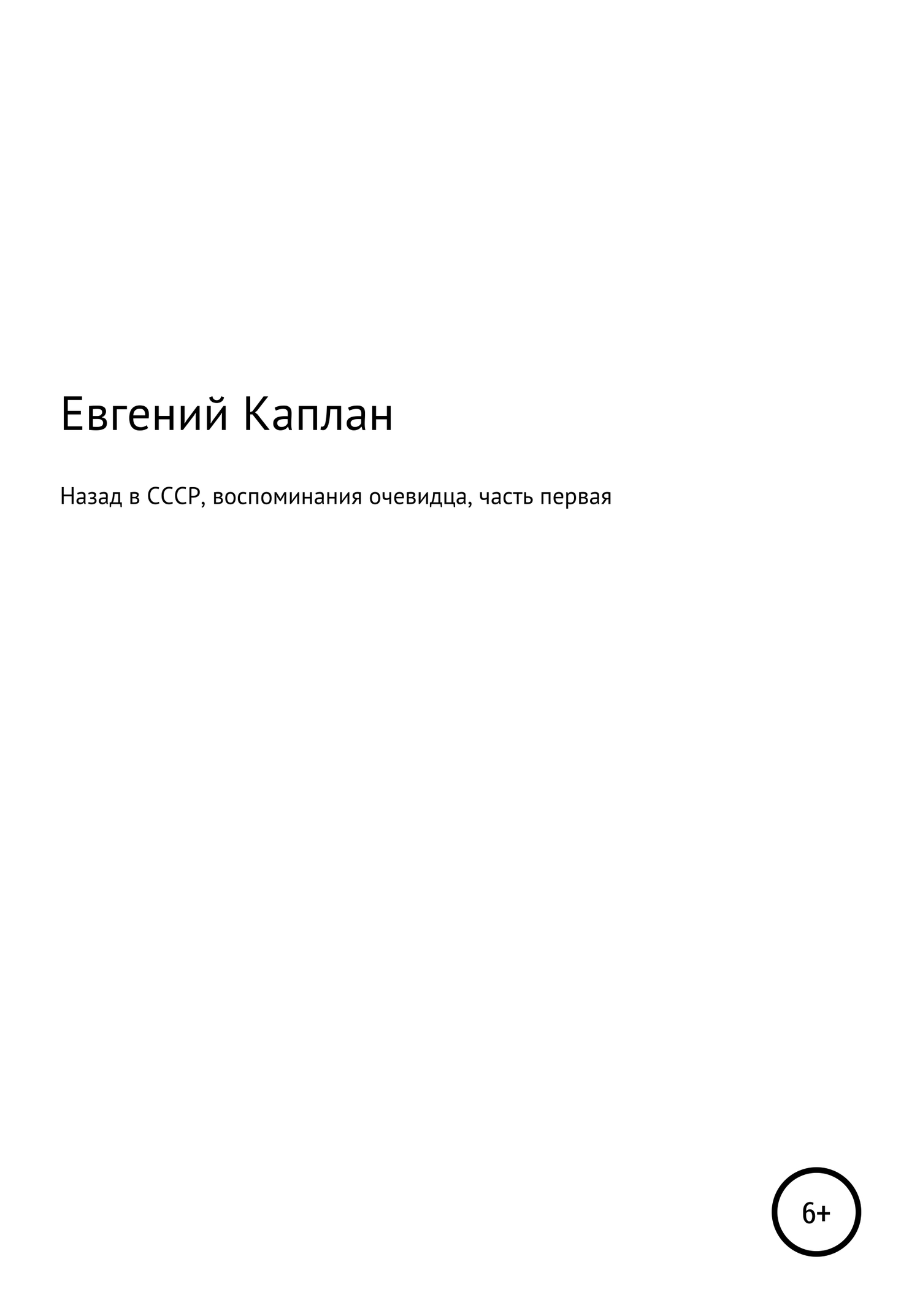возле порога.
— Это они, наверное, отсюда отправились к Тане, — сказала. — Надо бы удостовериться, как там и что.
— Нет, — категорически возразил Кравчинский, — всякие посещения сейчас отменяются. На квартирах могут быть засады. Боюсь, что нам вообще придется разъехаться, оставить Москву раньше, нежели мы предполагали. И вам, Липа, тоже. Хотя бы на время.
— А дети?
— Отвезите в деревню.
Олимпиада помрачнела. Очевидно, возвращение к своим было для нее большим мучением.
— Ну, начинается, — тихо проговорил Морозов.
VII
Москва не служила больше пристанью, где хотя бы временно могли укрыться застигнутые внезапным штормом молодые труженики народного моря. Она становилась ловушкой, из нее надлежало как можно быстрее уходить.
Аресты свидетельствовали о том, что от слежки Третье отделение перешло к активным действиям, что над каждым из них навис дамоклов меч и увернуться из-под него на этот раз будет чрезвычайно трудно.
Прежде всего надлежало позаботиться о товарищах. Уже в конце апреля в Москве не оставалось ни одного члена кружка. Все они, прихватив готовую к тому времени литературу, разошлись и разъехались по селам соседних губерний, некоторые проникли даже на Поволжье. Морозова и Олимпиаду (детей она так и не отправила) пришлось устроить у одного из сочувствующих им курских помещиков. Не удалось уберечь только Таню. Она задержалась по каким-то причинам, а может, и ради него, — для этого тоже, кажется, были основания, — и ее арестовали средь бела дня на улице — выследил филер.
Сергей остро переживал арест Лебедевой. Эта черноглазая, всегда спокойная девушка, оказывается, была ему далеко не безразлична. «Странно, — размышлял он, — иногда то, что нам дорого, близко, мы оцениваем только после его утраты». Любит ли он Таню? Во всяком случае, до сих пор он не задумывался над этим. Он c горечью ощущал, что ему теперь не хватает ее горящих глаз, следивших, бывало, за ним украдкой, ее тихого слова... И, может быть, одной из причин, вынудивших Кравчинского остаться в Москве, была надежда освободить Таню.
Доподлинно известно только одно: государственный преступник № 1 (Бакунин и Лавров были в эмиграции, Кропоткин — в каземате) Сергей Кравчинский (он же пропагандист Сергей, гимназист Михайлов, студент Свиридов, князь Шершевадзе, иностранец Роберт Плимут и в конце концов Марк Волохов из «Обрыва» Гончарова — так он назвался в книге приезжих в одной из центральных гостиниц) еще около двух месяцев безвыездно проживал в Москве. На его имя, то есть на имя вышеперечисленных лиц, поступала корреспонденция, он поддерживал связь с Петербургом и с другими организациями, писал своим адресатам длинные шифрованные письма, о которых позднее, будучи известным беллетристом, шутя скажет, что они, эти письма, фактически сделали его писателем...
При Кравчинском и, видимо, не без его помощи Ипполит Мышкин открывает 4 мая собственную типографию в доме № 5 на Арбате, где в разгул реакции под самым носом полиции печатались произведения Лассаля, Чернышевского, «Книга для чтения рабочим», «Историческое развитие Интернационала» и другие крайне нужные книги; он принимает деятельное участие в организации сапожных (в действительности переплетных) мастерских для этих изданий в Пензе и Саратове, подыскивает для них людей; он, наконец, становится свидетелем разгрома типографии и ареста Фрузины Супинской-Мышкиной...
Уедет за границу Ипполит, избежавший ареста только благодаря сообразительности Фрузи, окажутся в тюрьмах десятки виновных и невиновных, а он безбоязненно будет находиться на своем революционном посту. Покоя у него не будет, обстоятельства вынудят его часто менять квартиры, недоедать, недосыпать, но Кравчинский сохранит твердость духа, активность борца.
VIII
В Москве продолжались аресты. Каким-то чудом проник сюда Клеменц. Сергей встретил его на одной из конспиративных квартир на окраине города. Они обрадовались встрече, проговорили чуть ли не всю ночь.
— Что делать дальше? — спрашивал Кравчинский.
— В народ. Другого выхода сейчас нет. Только там мы можем уберечь свои силы и принести пользу общему делу. — Клеменц прибыл из Петербурга, из центра, слова его были приказом. — Нас осталось мало, мы не должны идти на слепой риск. В деревнях безопаснее. И там нас ждут.
— Знаешь, Дмитрий, иногда приходит в голову такое, что страшно говорить. Правильно меня пойми...
— Что же именно?
— Что все эти наши хождения, пропагаторство — зряшное дело.
— Не говори глупостей! Не ты ли первым пошел в народ и агитировал идти других?
— Поэтому и говорю, — продолжал Сергей. — Не хочу отбрасывать хорошее, полезное, что дает хождение, не буду отрицать его целесообразностей, по крайне мере сейчас... Но подумай: сколько в этом деле пустого, бесплодного, сколько раз натыкались мы на равнодушие, даже... Да что говорить! Разве не встречали нас недоброжелательство, враждебные взгляды...
— Если бы все были сознательными, — убеждал Клеменц, — то и говорить было бы не о чем. На то мы и народники, революционеры, чтобы учить массы. Революция призвана переделать сознание масс, вырвать все отжившее, старое.
— Это я знаю, — не унимался Кравчинский. — Ты мне объясни: почему нас не воспринимают, почему в народе нас считают не друзьями, а врагами?
— Чего-то я тебя не узнаю, Сергей, — удивлялся Клеменц. — Что случилось? Ты устал?
— Ничего со мной не произошло, но могу же я поделиться с тобою своими сомнениями? В принципе?
— Конечно. Хотя — не тебя в этом убеждать — сомнение рождает пассивность, апатию.
— Со мной этого не случится. Однако последняя моя поездка полна разительных фактов. Прискорбно. Мы рискуем, лучшие наши товарищи в тюрьмах, им угрожает смерть, а так называемые массы пьянствуют, дерутся и боятся даже свидетельствовать в каком-либо деле. — И Сергей рассказал о случаях, виденных не в одной деревне и не на одной волжской пристани.
— Пороки, очевидно, будут и при социализме, — спокойно ответил Клеменц, — но это не значит, что от него надо отречься, перестать за него бороться.
Сергей нервно ходил по комнате, старенький дощатый пол жалостно поскрипывал под его ногами. Конечно, Дмитрий прав, он и сам это прекрасно понимает, но... Волховский, Таня, Кропоткин и еще десятки товарищей сидят в тюрьмах, а крестьяне, за которых они страдают, — боятся... Почему так? Почему Мышкин, этот умный прекрасный человек, должен бежать