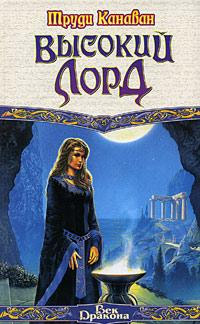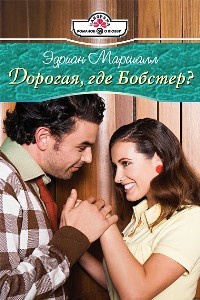В женскую часть заходил лишь хозяин. Точнее, в сам шатер, в котором проходила жизнь всей семьи, с очагом в центре, на котором готовили еду, грелись вечерами, сидя на тюфяках, разложенных по кругу, Единственным, что отделялось завесой, было родительское ложе. Туда детям вход был запрещен. Кроме ребенка, которого мать кормила грудью, и которого переводили в общее помещение после праздника трехлеток, забирая его от власти матери во власть отца.
Когда мальчику исполнялось двенадцать, и его сущность выходила из-под отцовской опеки, он мог поставить себе шатер, примкнувший к родительскому, но с отдельным входом. Обретая пару, он переносил свой дом на свободное место неподалеку, расширяя его, отделяясь таким образом от родителей, увеличивая место рода.
Наша женская половина была мертва. Насколько я знаю, отец после смерти матери, ни разу не лёг больше на её ложе. После отделения братьев во вторую половину вообще не заходили. У меня был свой шатер. Примыкающий к отцовскому, но отдельный. Отец построил мне его своими руками в тот день, когда у меня началось женское. Отделив от своей сути, наложив запрет на вход в шатер любому, в том числе и себе.
— Дом, — место твоей женской силы, — говорил он. Место, куда ты приносишь страхи и где принимаешь решения. Место, которое лечит твою душу и укрепляет твоё тело.
Здесь я просидела весь вчерашний день после возвращения из Города. Вспоминая, каждое мгновение из произошедшего и только сейчас начиная осознавать случившееся. Мучимая страхом и волнением. Не в состоянии принять решение.
Здесь я и просидела весь вчерашний день после возвращения из Города. Вспоминая, каждое мгновение из произошедшего и только сейчас начиная осознавать случившееся.
Отец вызвал меня, лишь когда на закате собрались все братья, примчался Лохем, которого похоже никто не ждал, и загнавший лошадь, чтобы успеть на Совет. Старейшины, перед принятием решения, выслушивали всех.
Мать Лейлы, за последние два дня опухшая от слез, стояла на коленях в пыли.
Женщина выглядела полубезумной. Волосы ее, по обычаю посыпанные пеплом, казалось потеряли цвет. Душа билась от бессильной ярости, но кто бы смог ее успокоить сейчас? Только муж, наверное, если бы был. Но он погиб на охоте, когда Лейла была совсем маленькой. И мать так и не смогла больше образовать пару. Лейла была единственным ребенком. Ее похоронили предыдущей ночью.
— Справедливости! — рыдала женщина, — я требую Справедливости! — дайте мне Жетон!
Подошел Лохем, качаясь от усталости, зачерпнул пепел из кострища, посыпая голову пеплом, бухнулся на колени рядом, проскрежетал пересохшим горлом: — Я любил Лейлу. Хотел взять её в пару. Я почти кровник. Отдайте жетон мне.
Я смотрела во все глаза, прикусив зубами пальцы сжатого кулака: сказать или не сказать? Позор ведь какой будет. И боль для брата.
Лейла не собиралась становится ему парой. Пока он искал нас на празднике, она выманила меня, чтобы познакомить с Колдуном. Как же все это было странно.
Когда они успели познакомиться? Ведь за стан мы не выходили ни разу до праздника, а по лагерю городским была одна дорожка и та заговорена. От входа в стан и до шатра собрания. Рам сам прокладывал, сам нашептывал. Он в этом силен. Кто из наших по тропке шел, укрыт был от чужих. Не мог Колдун Лейлу соблазнить, не мог.
Или мог? До того, как ночью, князь меня в Тьму закутал и сквозь стену прошел, я тоже думала, что это лишь сказки, которые сказитель у костра детям рассказывает. Но сказитель ведь старый, как мир. Может и перепутал чего?
Оказывается, не перепутал.
Князь тогда меня у Колдуна с рук забрал, и к купальням понес. Я этого не знала, очнулась уже в воде. Кругом камень, все черное, звук от стен отражается, множится, и где-то высоко под сводами теряется. Капли сверху падают: кап-кап-кап, как в склепе. Лишь факелы потрескивают, темноту разгоняют, в воде бликами отражаются, словно в черном зеркале. Вроде бы страшно должно быть, ан нет, не страшно совсем. Внутри кровь бурлит, просыпаясь, веселье по венам бежит и томление внизу живота разливается.
Он меня мыльным камнем моет, волосы расплетает, нашептывает. От слов тогда и проснулась. Поняла, что заговор Князь сделать хочет. А самой весело. Почему весело?
Я засмеялась, — Князь, на детей пустыни ворожба не действует!
Князь улыбнулся, — Ну не действует, так не действует, — а сам руками меня оглаживает, во все впадинки забирается. Вроде как моет, а вроде уже и нет. Рукой по груди прошел, самую вершинку сжал, а я не против, — внутри огнём всё горит.
— Я, говорит, — так мечтал до тебя здесь дотронуться, поцеловать, — и сосок губами сжимает, — Столько раз это во сне представлял, как волосы твои распускаю, — теперь не могу не распустить. Плывут волосы по воде, струятся. Руки жадные, скользят по моему телу. И губы.
А у меня лишь один вопрос, — Когда это он успел намечтать себе все это, если я его второй раз в жизни вижу?
А вода в той купальне странная была, черная. Это я даже своей задурманенной головой тогда понимала. Вода, которая не охлаждает, а наоборот.
Или это Князь меня своей страстью заразил, или вода, но я из этого сладкого морока выплыла, в себя пришла, лишь когда почувствовала, что он мне ноги раздвигает и своим естеством проникнуть в меня пытается.
Смешно мне тогда стало, да так, что даже морок отхлынул. Князь не понял. Отстранился, в глаза заглядывает:
— Что не так, Дара?
А я смеюсь, — Как ты Князь смерти не боишься? Ведь если наши две крови в воде, упавшей с неба, смешаются, я твою тьму возьму, а ты мой свет. Обряд это. Единения. Вы ведь сюда воду небесную собираете? Я желоба видела.
Вот тогда Князь меня на руки поднял, в Тьму закутал, и в стену шагнул. В купальне под Городом шагнул, в своих покоях в самой высокой башне вышел.
И пообещал мне, — Я с тобой, мой Свет, могу любым обрядом объединяться, и если бы отец твой согласился, то был бы обряд ваш сначала, а спальня потом.
И если бы ты вчера согласилась, то был бы обряд наш сначала, а спальня потом.
А теперь будет сначала единение, а потом уже обряд, — все это я слышала, как сквозь туман, лежа на огромном ложе, и уплывая в горячем мороке в совершенно незнакомые ощущения.
Князь покрывал меня поцелуями, не отпуская, доводя до сумасшествия; лаская там, где и ласкать, кажется, нельзя; нашептывая слова, — горячие, стыдные.
И когда я уже стонала в