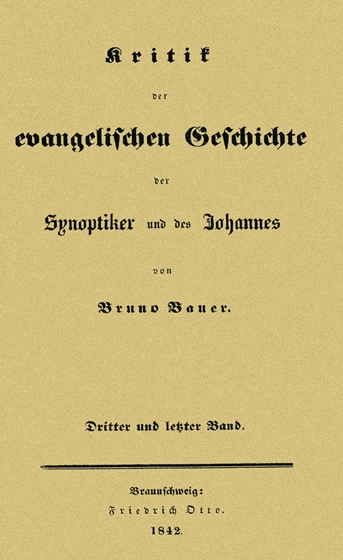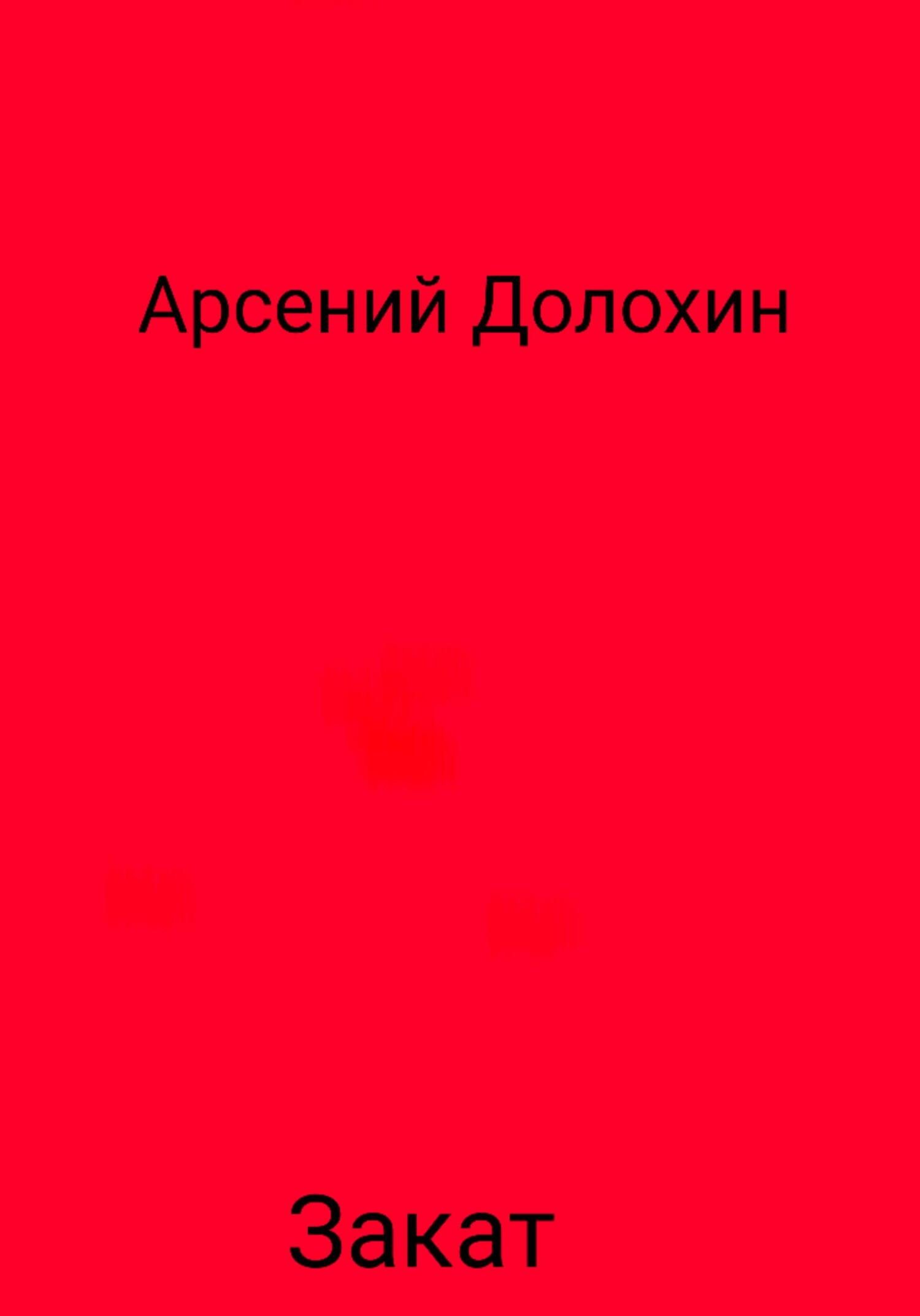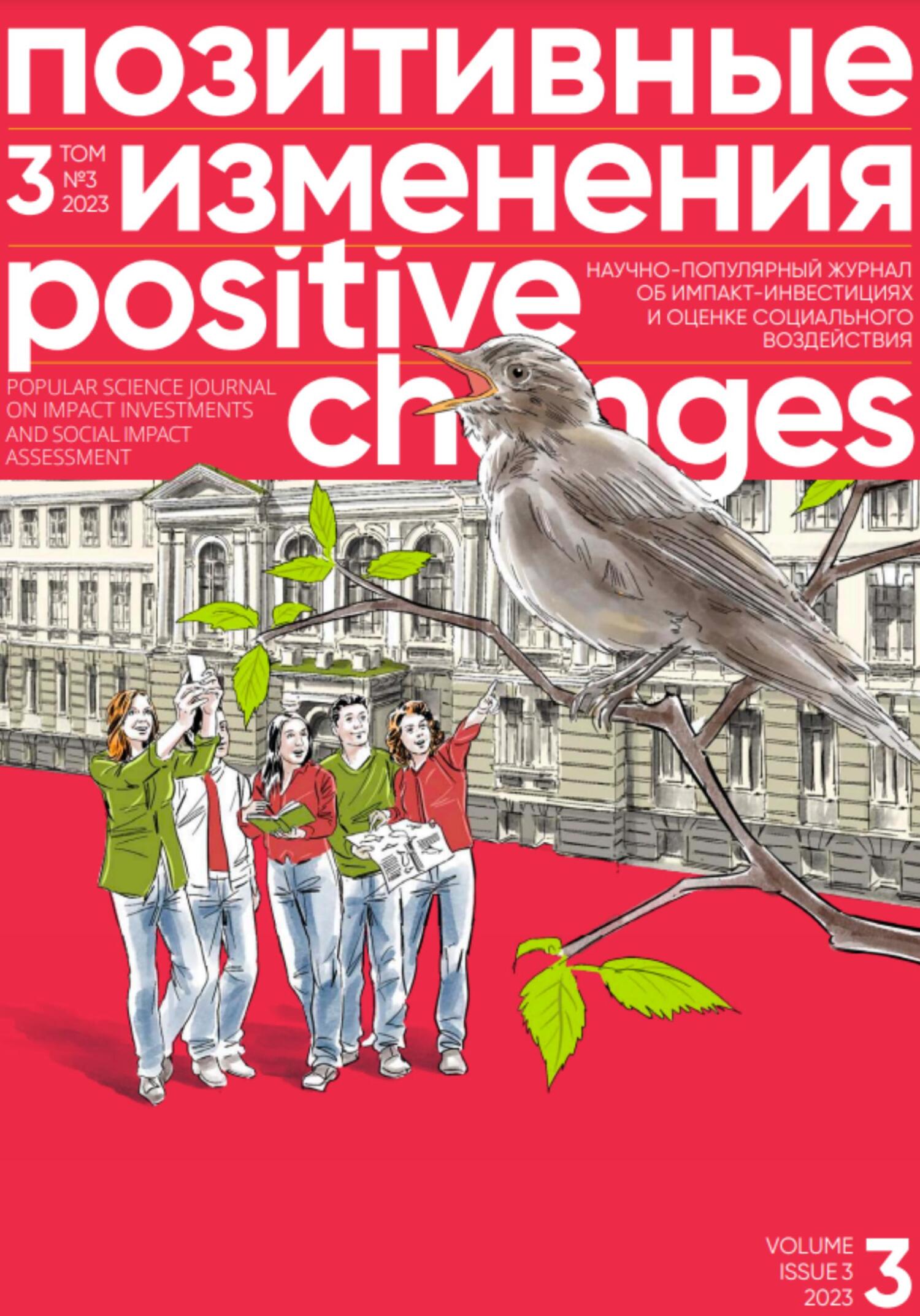«сопутствующих явлений». В их книгах не ощутишь и следа мифической мощи эсхиловского хора, колоссальной земной силы древнейшей скульптуры, дорической колонны, жара аполлонических культов, даже глубины римского императорского культа. Другие, в первую очередь запоздалые романтики, как еще недавно три базельских профессора – Бахофен, Буркхардт и Ницше, стали жертвой опасности, угрожающей всякой идеологии. Они затерялись в заоблачных высях той древности, которая является исключительно зеркальным отражением их получившей настрой от филологии восприимчивости. Они полагаются на остатки древней литературы, единственное свидетельство, представляющееся им достаточно благородным, однако нет ни одной другой культуры, которая была бы отображена своими великими писателями столь несовершенным образом[21]. Первые же полагаются преимущественно на сухой материал источников по праву, надписей и монет (чем в особенности, к ущербу для себя, пренебрегали Буркхардт и Ницше), и подчиняют ему сохранившуюся литературу с ее зачастую минимальным присутствием правдивости и фактичности. Так что уже в связи с избранными критическими принципами такие люди не могут воспринимать друг друга всерьез. Мне не приходилось слышать, чтобы Ницше и Моммзен уделили друг другу хотя бы минимальное внимание{14}.
Однако ни тот ни другой не достиг той высоты наблюдения, откуда эта противоположность обращается в ничто и которая была тем не менее возможна. Такова была плата за перенесение принципа причинности из естествознания в историческую науку. Мы бессознательно пришли к прагматизму, поверхностно скопированному с картины физического мира, однако он скрывает и путает совершенно иначе сложенный язык форм истории, а вовсе его не раскрывает. Чтобы подвергнуть углубленному и упорядочивающему изучению всю массу исторического материала, не придумали ничего лучшего, как назначить одну совокупность явлений первичными, т. е. причинами, а прочие соответственно вторичными, и трактовать их в качестве следствий и результатов. К этому прибегли не одни практики, но также и романтики, потому что история не открыла собственной логики также и их мечтательному взгляду и потребность в установлении имманентной необходимости, наличие которой можно было ощутить, слишком велика, если только не предпочесть вовсе отвернуться от истории, как это с досадой сделал Шопенгауэр.
11
Поговорим же теперь без промедления о материалистическом и идеологическом способе рассмотрения античности. В первом случае нам объясняют, что причиной опускания одной чаши весов является поднятие другой. Утверждают, что так бывает во всех без исключения случаях, – вне всякого сомнения, бьющий в самую цель довод. Итак, мы имеем здесь причину и следствие, причем, само собой разумеется, социальные и сексуальные, на худой конец чисто политические факты составляют причины, а религиозные, духовные, художественные – следствия (постольку, поскольку материалист мирится с обозначением последних в качестве фактов). Идеологи же, напротив, утверждают, что подъем одной чаши имеет причину в опускании другой, и доказывают это с той же самой точностью. Они погружаются в культы, мистерии, обычаи, в тайны стихов и линий и едва удостаивают взгляда заурядную повседневную жизнь, это прискорбное следствие земного несовершенства. И те и другие доказывают, имея причинно-следственные ряды перед глазами, что другие, очевидно, не видят или не желают видеть истинной взаимосвязи вещей, а кончают тем, что обзывают друг друга слепыми, плоскими, глупыми, нелепыми или легкомысленными, забавными придурками или пошлыми обывателями. Идеолог вне себя, когда кто-либо всерьез занимается финансовыми проблемами у греков и, к примеру, вместо того, чтобы рассуждать о глубокомысленных изречениях дельфийского оракула, говорит о широкомасштабных денежных операциях, которыми занимались жрецы оракула, используя свезенные к ним сокровища. Политик же мудро усмехается над тем, кто растрачивает свое вдохновение на священные формулы и на одеяние аттических эфебов, вместо того чтобы написать книгу об античной классовой борьбе, усыпав ее множеством расхожих современных словечек.
Предвестника одного из этих типов мы видим уже в Петрарке. Это он создал Флоренцию и Веймар, понятия Возрождения и западного классицизма. С другим можно было столкнуться уже начиная с середины XVIII в., с началом цивилизованной, проникнутой экономическими принципами мировых столиц политики, а значит, поначалу в Англии (Грот). Собственно говоря, здесь друг другу противостоят представления культурного и цивилизованного человека – противоположность, которая слишком глубока и чересчур человечна для того, чтобы дать почувствовать слабость обеих точек зрения, уж не говоря о том, чтобы ее преодолеть.
Также и материализм ведет себя в данном вопросе идеалистически. Также и он, сам того не зная и не желая, поставил свои воззрения в зависимость от собственных желаний. На самом же деле все без исключения лучшие наши умы с благоговением склонялись перед образом античности и лишь в этом единственном случае отказывались от права на не знающую пределов критику. Свобода и размах в исследованиях античности постоянно сдерживались какой-то почти религиозной робостью, что затемняло их результаты. Во всей истории не существует другого подобного примера столь пламенного культа, который бы воздавала одна культура в отношении памяти о другой. Выражением этой преданности было также и то, что начиная с Возрождения мы идеалистически связали древность и Новое время «Средневековьем», более чем тысячелетием недооцененной, едва ли не презираемой истории. Мы, западноевропейцы, принесли в жертву «древним» чистоту и независимость нашего искусства, когда отваживались творить лишь с оглядкой на «несравненный образец». Мы всякий раз вкладывали, вчувствовали в наш образ греков и римлян то, чего были лишены, но на что надеялись в глубине собственной души. Когда-нибудь проницательный психолог поведает нам историю этой роковой иллюзии, историю того, что мы всякий раз почитали в качестве античного начиная со времен готики. Мало задач, которые были бы поучительнее для внутреннего понимания западной души, начиная с Оттона III, этой первой жертвы Юга, и вплоть до Ницше, последней его жертвы.
В своих итальянских путешествиях Гёте с воодушевлением рассуждает о постройках Палладио, чей холодный академизм встречает ныне с нашей стороны скептическое отношение. Потом он осматривает Помпеи и с нескрываемым неудовольствием говорит о «диковинном, наполовину неприятном впечатлении». То, что было им сказано о храмах в Пестуме и Сегесте, этих шедеврах греческого искусства, носит принужденный и малозначительный характер. Очевидно, он не признал во всем этом той античности, которая некогда встала перед ним воочию во всей своей мощи. Однако то же происходило и со всеми прочими. Они избегали помногу наблюдать античность, и таким образом им удавалось сберечь свой внутренний образ. Их «античность» всякий раз была фоном для жизненного идеала, созданного ими самими и напитанного лучшей их кровью, она была вместилищем для их мироощущения, призраком и идолом. В ученых кабинетах и поэтических кружках слышны восторженные отзывы о смелых изображениях сутолоки больших античных городов у Аристофана, Ювенала и Петрония, о южных грязи и черни, диком