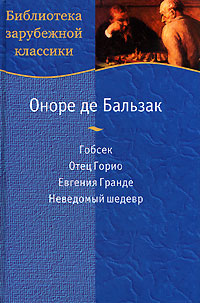кавалерист, в последней месяц войны на каких-то альпийских лугах чуть не догнал свою смерть. На всем скаку влетел в минное поле.
Сам контуженный, не дал пристрелить коня, залечил рану, привез в деревню.
Девчонкой это запомнила женщина и теперь, еще раз насмотревшись на белого коня, на мыльные, напряженные руки сына, снова набрела глазами на свою далекую, будто подернутую дымом фигуру. Ей пошел уже семнадцатый год, когда она, пожив у бабушки в Сибири, вернулась в деревню. Может, и не вспомнила бы Тихона Подъячева с его хромым конем. Не было ни того, ни другого — конь умер на неделю раньше хозяина.
Но раз в сенокосный день, лежа на копне, поймала она слухом конский топот, гадала лениво: откуда бы?
Присела. По чисто скошенному лугу ровным наметом нес седока конь — черный, блестящий, будто выточенный из камня. Подскакал прямо к ней, закружился, раскидывая всеми четырьмя копытами сенную труху. Спрыгнул с коня, крепко ступая молодыми ногами, подошел и протянул флягу с водой парень, сын Тихона… С сыном того же хромого коня, Жиганом.
Потом бывало, едва спустится она к реке, не успеет снять с плеч коромысла, возникает вдали знакомый уже копытный стук. И вдруг тесно делалось в груди зачастившему сердцу. Она входила по колено в воду. Полоскала белье, желая, но не смея взглянуть туда, где парень расседлывал Жигана. Вздыхала и пугалась, словно тихие ее вздохи слышала вся деревня. Забываясь постепенно, смотрела, как переплывает реку Жиган, несется, черный и мокрый, по скошенному лугу с черным от загара седоком на спине. Возвращались сухие, обветренные; с полого берега на всем скаку влетали в воду, и бежала с того места кругами чистая, зеленая рябь. Проплывая мимо, парень украдчивым движением руки бросал ветку малины с перезревшими уже, докрасна настоявшимися ягодами.
Осенью забрали его в армию вместе с конем. И случилось так, что на письмо его с погранзаставы ответить она не смогла…
— Сынок, — сказала женщина. — Видела я, как коня моют. Его жгутами моют, полотенцем натирают. Тогда он блестит как орех… Я тебе воды согрею.
— Тебе он тоже нравится? — спросил сын, подойдя к матери, ласкаясь. — Где же еще я его видел?..
Белое пятно, высоко захватив шею и спину коня, клином сходилось к животу, лоснилось. Понемногу мать и сын представили, каким станет конь, если его вымыть всего. Внезапно Андрюша встрепенулся, глаза его округлились, метнули радостный свет. Он вспомнил… На экране — застывшие четкими квадратами войска, Красная площадь. Из Кремлевских ворот выезжает всадник на белом коне. Следом второй — тоже на белом. Два белых коня плавно движутся к войскам, танцующими ногами цокают по брусчатке…
— Ма, — прошептал, рванулся Андрюша. — Ма, он парадный. Юбилейный парад помнишь? Ну, прямо вылитый! На нем парад принимают. Всех родов войск.
— Как же он к нам-то попал?
Андрюша потускнел, сказал боязливо:
— Может, отец… Купить он не мог, конечно.
— Кто ему продаст такого?
— Да я так… Вырвалось. Он же кричал, помнишь: «Я все могу купить…»
— А ты слышал, значит?
— У меня что — ушей нет?
Сильно печалясь, мать привлекла к себе сына, обняла, опять посмотрела на коня, видя в нем другого, надо думать, Жигана.
— У него, кажется, губа в крови, ма…
Она не ответила. Из открытой двери сеней, из дома донесся нечеткий, приглушенный звук, будто там кто плакал.
Грахов проснулся в слезах. Еще во сне неизвестно откуда подобралась к сердцу тоска, от нее сейчас избавлялся Грахов короткими облегчающими всхлипами. Ноздри процеживали запахи сухой полыни, и тоска делалась острее, забиралась глубже. Не помнил Грахов, чтобы он когда-нибудь так вот слезливо жаловался на свою судьбу. Но и беспричинно не мог он плакать. И раньше у него бывали нелады с самим собой. Для ежедневного удобства Грахов заглушал в себе всякую тревогу, придумывая ей первую же легкую, угодливую причину.
Сейчас, глядя на пыльные, позолоченные отраженным светом стропила, он еще раз попытался отстраниться от тоски. И какую-то часть ее неожиданно взял на себя, вспомнившись, дядюшка.
Жил Грахов у дядюшки пять лет, пока учился в институте. Не особенно дружил с ним, но не избегал, с самого начала установилось между ними негласное соглашение не навязываться друг другу. С одной стороны — дядюшкина чуть наигранная ироническая откровенность, с другой — граховское снисходительное почтение. Дядюшка, вот кто любил и умел жить, как он сам говорил, не мешая жить и другим. Он охотно пояснял, как это дается: не всегда слышать то, что слышишь, и видеть, что видишь.
Порочная мудрость, облачаясь в речах дядюшки в шутливое одеяние, не настораживала, лишь забавляла. Так же, забавляя других и себя, дядя занимался науками — сразу тремя. Секрет, судя по его исповеди, был несложен. Когда двое, видя велосипед, говорили изобретателю, что перед ними перпетуум-мобиле, он присоединял свой голос, становясь третьим.
Иногда дядя неузнаваемо менялся. Подавленный, с надеждой вглядывался в Грахова; утомленный взор его будто предостерегал и упрашивал: не повтори мой путь. Интеллигентный по всем полагающимся признакам, он вдруг заявлял, что интеллигентом не был, не будет — для этого нужно больше отдавать, чем брать.
Будто раскрывалась в нем рана, и он обнажал ее, сочащуюся перекипевшей кровью. Длилось это недолго — он снова надевал на лицо улыбку, и опять все любили его, расступались перед ним, безобидно потешным, милым и мудрым.
Почему же он не напомнил о себе, когда Грахов, уже сотрудник НИИ, колебался, взять ли ему диссертацию попроще? Или не отказываться от своей, пусть мучительно долгой, темы — ведь она была у него, была!
В глазах снова сделалось влажно и темно.
Долго еще тянулись обрывочные нити раздумий, и теперь они, горестные, связывали, связывали Грахова со Светланой, подтолкнувшей его в круг легких удач. С Мариной он бы выстоял. Вдруг утомившийся Грахов почувствовал, что ему хорошо. Будто от гнета какого освободилась грудь — сладостно, пусто в ней.
На стропилах лениво пошевеливались серые струпья из пыли. Уставясь на них, Грахов начал припоминать, как оказался здесь, в этом сумрачном углу среди старого тряпья.
Он встал, вышел на крыльцо. В ярком свете различил женщину и мальчика. Сам не зная зачем, извинился тусклым голосом, стыдливо прикрыл рукой лицо.
— Лошадь в сарае, — сказал мальчик.
— Значит, все-таки уехали, — проговорил Грахов. — Ну я ему устрою… Напоили они меня.
— А пусть себе калымят, — по-взрослому произнес мальчик, чем немного потешил Грахова. — Я коня вашего помою.
— Мне бы самому умыться, — сказал Грахов и стал снимать пиджак и стягивать рубаху.
Умылся, вошел в сарай. Увидел лошадь, ее отмытый добела бок, и защемило у него вдруг под