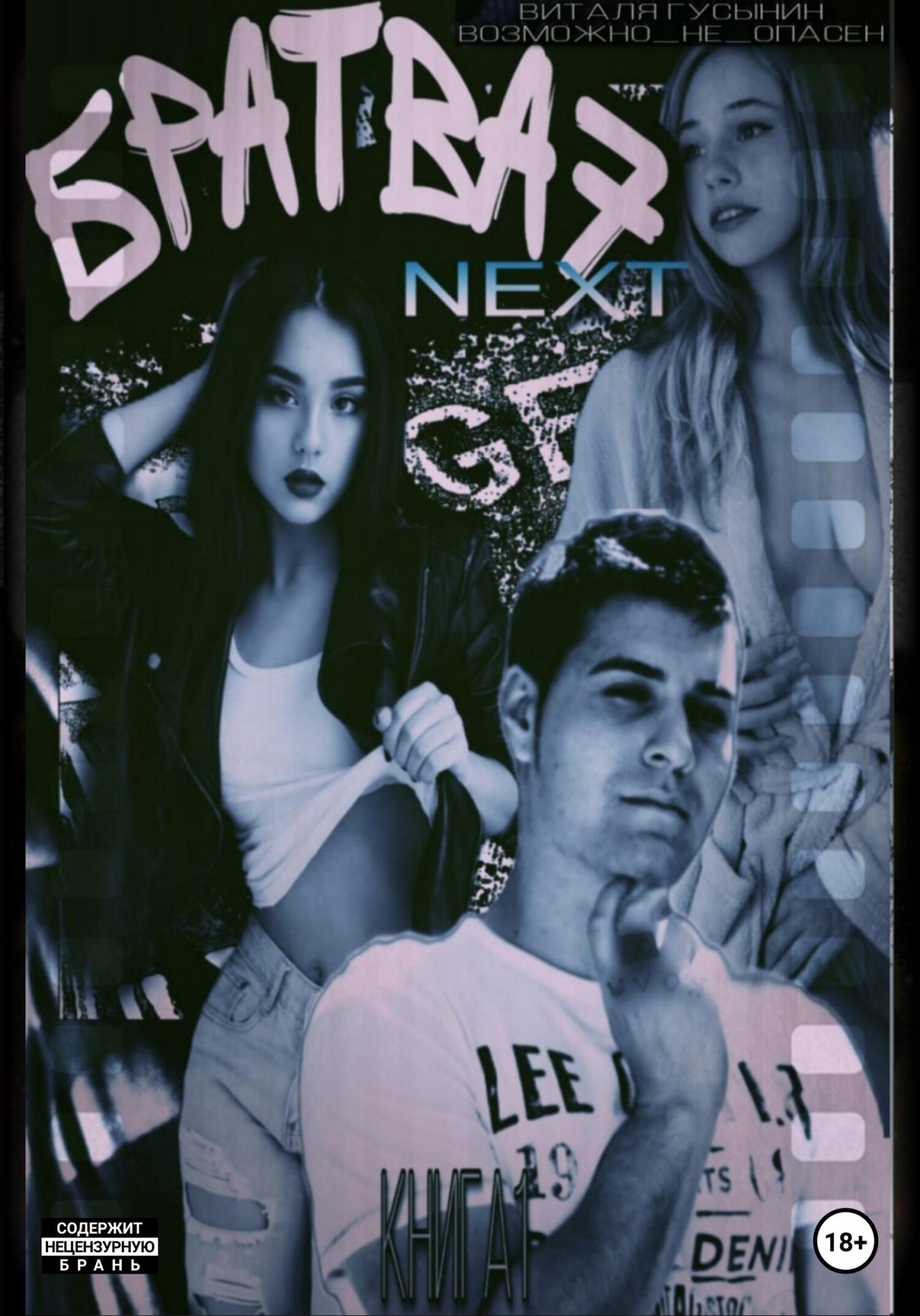Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
отправили на прием к психоаналитику, который нарисовал карту моего характера. Он думал, что может свести его к схеме на листке бумаги А4! Это была его «фишка», и он явно гордился ею. На карте была изображена центральная колонна – по всей видимости, объективная реальность, – вокруг которой было множество стрелок, направленных в открытое пространство, а затем встречающихся и пересекающихся друг с другом, образуя бесконечный конфликтный круг. Половина из этих стрелок подчинялась импульсу бунта, другая половина – импульсу согласия, якобы показывая, что, как только мне удавалось прийти к согласию с чем-либо, я начинала бунтовать, а взбунтовавшись, ощущала сильное желание снова прийти к согласию – путешествие по кругу в бессмысленном танце, выдуманном мной! Психоаналитик считал свое объяснение абсолютно гениальным, но в то время я была одержима только одним желанием – навредить себе: оно схватило меня за горло, как собака. И я перестала ходить к психоаналитику, потому что видела, что он не сможет спасти меня от этой собаки. Мне, правда, было обидно, что тем самым я доказываю его правоту по поводу бунта: полагаю, он понял это именно так и остался доволен.
Спустя несколько месяцев я встретила психоаналитика на улице, сказала я Л, и он подошел и с легким упреком спросил, как я, и прямо среди бела дня я высказала ему всё, что о нем думала. Я говорила так, будто мной на этом тротуаре овладел какой-то бог речи: я говорила с пафосом, предложения слетали с моих губ огромными венками смыслов. Я напомнила ему, что я, мать маленького ребенка, пришла к нему в бедственном положении, боясь, что уничтожу себя, и он не сделал ничего – ничего, чтобы защитить мою дочь или меня, только накалякал что-то на бумажке и придумал доказательство моему комплексу власти – как будто у меня не хватало доказательств от тех страданий, что я испытывала! В середине моей речи психоаналитик поднял руки в знак того, что сдается: он совсем побелел, вдруг показался мне слабым и постаревшим и начал отступать от меня по тротуару с поднятыми руками, пока не отошел достаточно далеко, чтобы повернуться и убежать. Образ этого бегущего мужчины с поднятыми руками, сказала я Л, остался со мной как воплощение всего того, с чем мне не удалось примириться. У меня не было никакой возможности убежать от своего физического тела. Но он мог просто сбежать!
Л слушал, не сводя с меня своих ярких глаз и держа руку у рта.
– Ужасно жестоко, – сказал он, хотя из-за его руки я не понимала, улыбается он или хмурится и кого из нас обвиняет в жестокости.
Какое-то время мы стояли в тишине, и когда Л снова заговорил, он продолжил свой рассказ о детстве, как если бы мои слова просто вежливо проигнорировали. Не думаю, что Л не способен проявлять интерес к другим людям: он внимательно слушал мою историю, я уверена. Но в игру в сочувствие, по правилам которой мы подбиваем друг друга показать свои раны, он играть не стал бы. Он решил объясниться передо мной, вот и всё, а что я предложу в ответ – уже мое дело. Я понимала, что я не первый человек, кому предлагается это объяснение, – я могла представить, как в интервью или со сцены Л рассказывает о себе то же самое. Человек говорит так, только когда чувствует, что заслужил на это право. И я не заслужила, по крайней мере, в его глазах – или пока не заслужила!
Он начал рассказывать, как однажды, когда он был маленьким, его отец заболел и его на время, чтобы снять с матери дополнительную нагрузку, отправили жить с тетей и дядей. У них не было собственных детей, и они были вздорными и грубыми людьми, сказал он, главным развлечением и целью которых было причинить боль другому. Он вспомнил, как его дядя вопил от радости и потирал руки, когда тетя обжигалась о печь; она, в свою очередь, сгибалась пополам от смеха, если он ударялся о дверной косяк, и, когда они ругались, гоняясь друг за другом вокруг кухонного стола с кочергой или сковородой, они могли весело покалечить друг друга. Он сомневается, существует ли еще подобный типаж. Они были похожи на животных, и это заставило его задуматься, нет ли в типажах самих по себе чего-то звериного, от чего люди в наши дни дистанцировались. Дядя и тетя особенно о нем не заботились, хотя и ничего плохого ему не делали, и понятия не имели, как помочь ему в этот сложный период болезни отца: от него ожидалось, что помимо школы он будет выполнять свою долю тяжелой физической работы, а вскоре они и вовсе перестали отправлять его в школу. Он постепенно осознал, что, если его отец умрет, пока он живет в доме дяди и тети, они и бровью не поведут и продолжат жить как жили. Возможно, они даже не расскажут ему, и он отчаянно хотел вернуться домой до того, как это случится, – так ясно он себе это представлял. Ему удалось добраться до дома, и к тому времени, как его отец умер, он уже забыл дядю и тетю, но позже ему вспоминалось это время, проведенное среди людей, для которых он не имел особого значения, и вспоминалась острая потребность вернуться туда, где он может сыграть свою роль в истории. Смерть в тот момент явилась ему яснее, чем в любой из кровавых сцен, которые ему доводилось видеть. Он обнаружил, что реальность будет существовать вне зависимости от того, сможет он ее увидеть или нет.
К этому времени над нами взошло солнце, мы стояли и любовались болотом и красотой дня, и в этот момент я почувствовала редкий покой от пребывания здесь и сейчас – однако мимолетный.
– Надеюсь, мы не будем путаться под ногами, – сказал Л. – Не хочу вам мешать.
– Не понимаю, как вы можете нам помешать, – сказала я, снова почувствовав обиду. Как бы я хотела, чтобы он не бросался такими словами!
– Похоже, мое везение кончилось, – сказал он. – В последние месяцы всё ужасно скверно. Но сейчас я уже начинаю думать, не всё ли равно. Колесо может снова повернуться, но у меня такое чувство, что я возвращаюсь в прошлое, а не иду в будущее. С каждым днем я чувствую себя легче. Лишиться собственности не так и плохо.
Я сказала, что только мужчина – и мужчина, не обремененный семьей, – может наслаждаться этим чувством. Мне удалось сдержаться и не добавить, Джефферс, что он еще и полагается на щедрость обремененных людей, таких, как я! Но я всё равно что сказала это, потому что он меня услышал.
– Моя жизнь не что иное, как трагедия, – сказал он мягко. – В конце концов, я всего лишь нищий, просящий подаяния, и так было всегда.
Я была с ним совершенно не согласна и сказала ему об этом. Не быть рожденным в женском теле – уже удача: он не замечал собственной свободы, потому что не мог понять, как вообще ему могло быть в ней отказано. Просить подаяния – само по себе свобода, по крайней мере, это подразумевает равенство с нуждой. Мои же опыты потери, сказала я, всего лишь показывали безжалостность природы. Раненые в дикой природе не выживают: женщина не может отдаться на волю судьбы и рассчитывать, что останется целой и невредимой. Ей приходится самой бороться за свое выживание, и как после этого она может нуждаться в каких-то объяснениях?
– Я всегда думал, что вам не нужны объяснения, – пробормотал он. – Я думал, что вы откуда-то уже всё знаете.
В его тоне было что-то саркастичное: в любом случае, помню, он как-то попытался пошутить, что женщины владеют каким-то божественным и вечным знанием, и это означало, что ему не нужно о них переживать.
Он сказал, что думает попробовать себя в портретах, пока он здесь. Будто бы смена обстановки позволяет видеть людей более отчетливо.
– Я хотел спросить, – сказал он, – как думаешь, Тони согласится мне позировать?
Этот вопрос был таким неожиданным и настолько противоречил моим ожиданиям, что я восприняла его как физический удар. Перед нами раскинулся пейзаж, который я видела его глазами и в котором все эти годы видела его руку, а он поворачивается и говорит,
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34