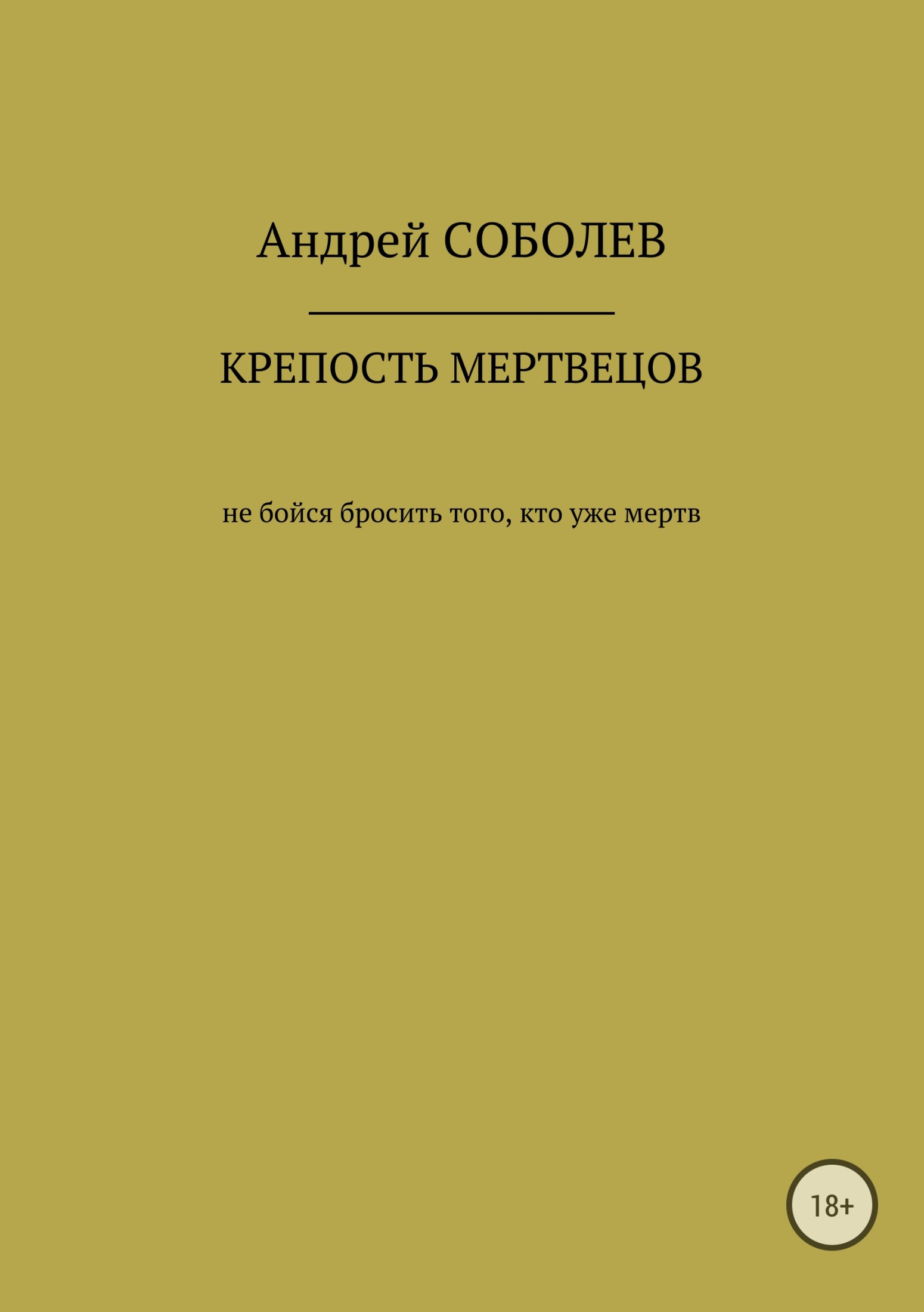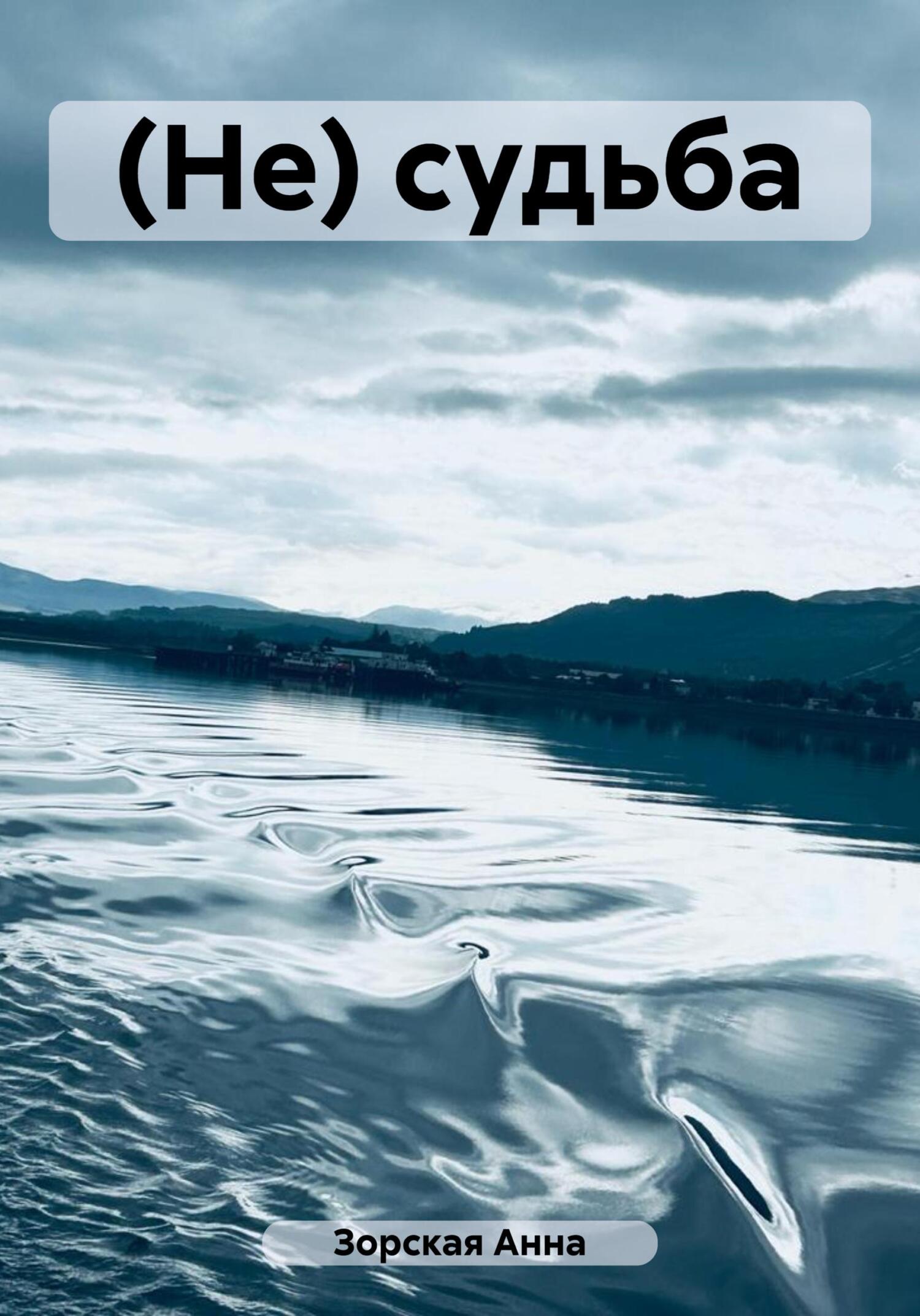местечке среди зеленых холмов. Несмотря на шумные протесты Мамариной, которые были мягко проигнорированы неулыбчивым финским увальнем, принимавшим нас у конвоя, нас разделили: Викулина отправили к другим мужчинам, а нас со Стейси и ее матерью поселили в женской палате – в комнате, где, кроме нас, были еще две русские дамы. Одна из них, жена аптекаря из-под Боровичей, растерявшая по пути до Гельсингфорса всю свою семью, мучилась еженощными видениями, развивавшимися по одному и тому же сценарию: в середине короткой майской ночи, когда свет за окном сменялся наконец ровной полутьмой, и даже птицы, шумно переговаривавшиеся весь вечер, наконец замолкали, она начинала что-то бормотать сквозь сон, причем с такими интонациями и паузами, как будто читала стихи с необыкновенно длинными строками; повторив эти строки (среди которых слышались порой и отдельные слова) раз двадцать или тридцать, она ненадолго затихала, после чего начинала столь же ритмически постанывать, что-то приборматывая, а потом вдруг разражалась душераздирающим криком, отчего просыпались все обитательницы комнаты – и в последнюю очередь она сама.
Вообразить незамысловатый сюжет этого повторяющегося сна не составляло бы особенного труда (разночтения могли быть только в финальной части – кем на самом деле оказывался привлекательный поэт), но что делать с этой сластолюбивой сновидицей по сю сторону границы яви, было решительно непонятно: я пыталась будить ее еще на первом четверостишии, но она, сердито похлопав глазами, засыпала вновь, после чего, выждав полчаса, отправлялась в то же сентиментальное путешествие, которое, таким образом, просто начиналось и оканчивалось позже. Тем сильнее было наше общее облегчение (Викулин, хотя и попал в относительно спокойное окружение, явственно томился от, как он выражался, «вынужденной соборности»), когда на восьмой день нашего заключения мы были отпущены – и немедленно переехали в гостиницу.
Следующие несколько недель прошли размеренно и тихо – собственно, так, как и проходит бо́льшая часть жизни у тех, кому повезло не угодить в «счастливую эпоху восстановления попранной справедливости», – как выражалась Быченкова в предисловии к своей вологодской книге. По утрам Викулин уходил по каким-то своим таинственным хлопотам: насколько можно было понять из неохотных оговорок, его хоть и пощипанное, но все равно немаленькое состояние было распределено по нескольким банкирским конторам в разных странах Европы. Несчастный опыт России и самонадеянная уверенность большевиков в том, что другие страны охотно последуют за нею в пропасть, привели к тому, что ему постоянно мерещились грядущие революции в Англии, Швеции, Испании – поэтому сразу после чтения за табльдотом утренних газет он спешил на телеграф, чтобы отбить распоряжение о срочной продаже акций угольных копей в одной стране и покупке железнодорожных бумаг (к которым он питал нежную привязанность) в другой. Слушая эти объяснения – сперва недовольно-отрывистые, но по мере воспоминаний об удавшихся негоциях все более напыщенные – которые по вечерам он разворачивал перед млеющей Мамариной, я думала о таинственных темных токах, бегущих по дну океана, посредством которых передавались его распоряжения. Для поколения Мамариной телеграф был всегда существовавшей данностью; Викулин, который, по моим подсчетам, родился в конце 60-х (он молодился и, кажется, даже подкрашивал усы, которые так и норовили в припадке напрасной откровенности обнажить свой седой испод), должен был застать его появление – и неужели ему даже на секунду не было совестно, что труд стольких людей, тянувших кабель через бурный океан, был посвящен лишь тому, чтобы он мог вдоволь тешить свою финансовую мнительность?! Дело даже не в этом: в конце концов, у людей (если это не были североамериканские рабы) была иллюзия выбора собственной судьбы – но отчего-то мне было бесконечно жалко эти обреченные на вечную темную муку электрические частицы, которые мчались с бешеной скоростью по подводному железному шнуру, чтобы сообщить, что нужно купить еще «Магма Купера» по двадцать долларов за штуку.
Впрочем, моя собственная маленькая коммерция тоже оказалась на высоте. Несмотря на то что запас золотых червонцев, полученных в Петрограде, еще не полностью истощился, я решила отправить по назначению и второй конвертик из врученных мне Монаховым-старшим, тем более что он так точно указал мне на Гельсингфорс. Поэтому, улучив момент, когда Стейси уснула после обеда, а Мамарина с где-то раздобытым томиком Нагродской пристроилась рядом, я ненадолго ускользнула из отеля в поисках названной тем же Монаховым лавки Мейера. Оказалось, что сам Мейер уже несколько лет как отправился в большой антикварный магазин на небесах (где небось ему другие ангелы изо дня в день приносят что-нибудь необыкновенное), но лавка его находится на прежнем месте, только заправляет ей его вдова. Не успела я подумать, что монаховские талисманы и обереги, нацеленные на отдельное лицо, могут не сработать применительно к другой особе (как сыворотку от гадючьего яда бессмысленно вкалывать при укусе бешеной собаки), как уже сидела в уютном плюшевом кабинетике напротив черноволосой, коротко, как после тифа, остриженной дамы с мелкими чертами лица, внимательно в меня вглядывающейся. Все вокруг нее было окутано сильным сладким ароматом каких-то восточных благовоний, что, может быть, было призвано не только скрыть ее природный запах, но и вскружить голову случайному посетителю; на нас, конечно, такие ухищрения не действуют.
Дальше все развивалось примерно как при первом моем подобном опыте в Петрограде, лишь с поправкой на европейскую утонченность: дама с самого начала, едва заслышав о том, что мне хотелось бы расстаться с кое-какой семейной реликвией, вызвала колокольчиком своего подручного. Был он похож на какого-то немецкого фильмового актера – высоченный, худой, с глубокими залысинами и оттопыренными ушами. Наклоняясь из-за спины хозяйки, чтобы разглядеть извлеченный ею из конверта кусок пергамента (мне бросилась в глаза готическая вязь и частично раскрошившаяся красная сургучная печать, висевшая на пестром витом шнуре), он, кажется, случайно прикоснулся к ней: по крайней мере, она отпрянула от него слишком демонстративно, чтобы не задуматься об их истинных отношениях. Это вообще мне свойственно, увы – вцепившись мысленно в какую-то незначащую детальку, раздуть ее значение до космических масштабов. Увидев этот жест (а может быть, и жеста-то никакого не было, а лишь случайное движение), я сразу стала размышлять, служил ли тут этот синематографический злодей при покойном старике Мейере (к которому, конечно, я сразу почувствовала иррациональную симпатию) и, чего доброго, не явилась ли его кончина результатом объединенных усилий крепко пахнущей вдовы и ее ушастого подручного.
Из этих мыслей, лившихся как ниспадающая вода каких-нибудь дворцовых фонтанов, я была выведена покашливанием злодея. Был он, очевидно, немец или швед, но по-русски говорил правильно, хотя и с густым акцентом. Спросив меня, сколько я хочу получить за свой рескрипт