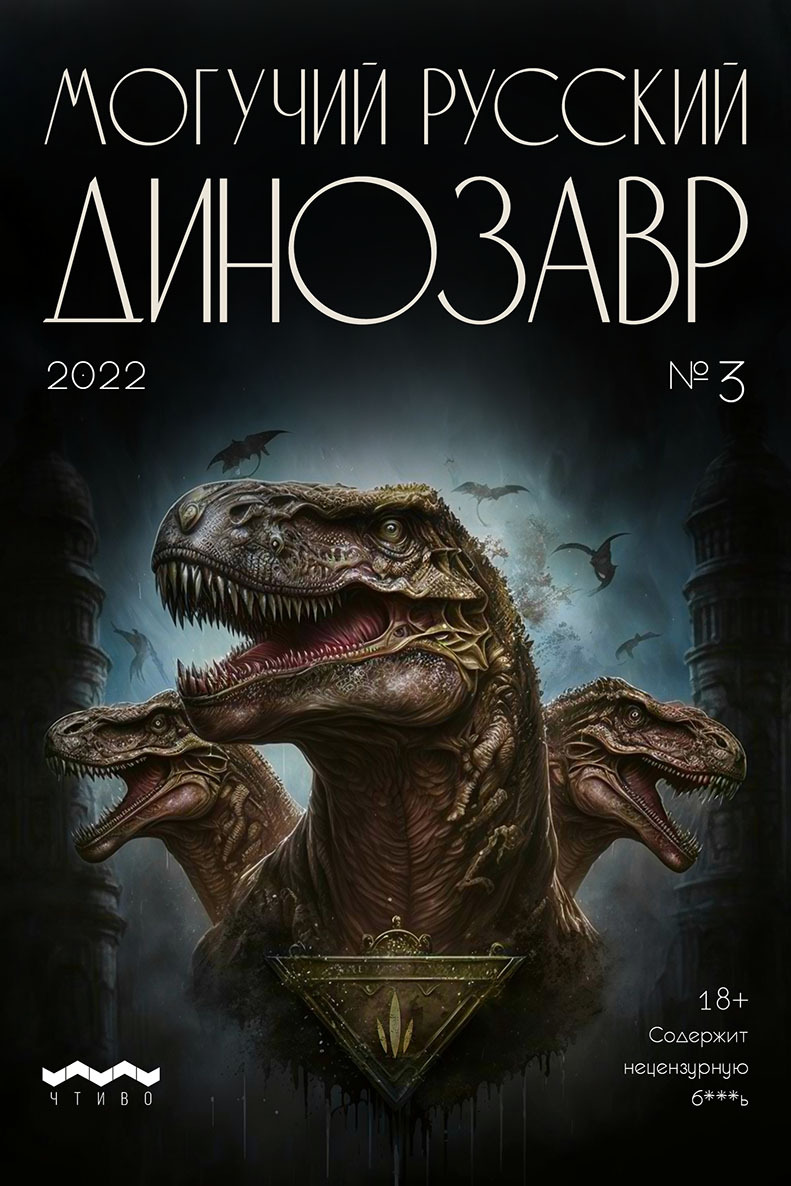Дома их встретила Юлия, забежавшая ненадолго к Матрёне Петровне. Она ни о чём не спросила – ей всё стало ясно по лицу подруги.
– Анька, слышишь, Анька! Ну приди в себя! Ещё не конец, ещё не всё потеряно, это всего лишь районная судья. Мы получим мотивированное решение и напишем апелляцию, слышишь, Анька?
– Угу, – кивнула Анна, зарываясь лицом в Юлин свитер, – знаем мы эти апелляции… Полгода не прошло с Женькиной… Напишем, конечно…
– Я знаю, – спокойно ответила Юлия, – Мосгорштамп, как сказал бы Артём. Но мы попробуем. Пробовать всё равно надо до конца, Анька.
* * *
С востока наползал на Донбасс рассвет, начиналось тревожное воскресенье одиннадцатого мая, когда тем, кто посмел, предстояло не решить свою судьбу, нет, решалась она с оружием в руках, но формально зафиксировать свою волю.
К наступающему дню готовились обе стороны. Готовились украинцы, наспех собиравшие по сусекам людей и технику, что было не так просто после четверти века всеобщего развала и уничтожения государства, в том числе и в военной сфере. Готовились дончане, всё ещё уверенные, что сторон в этом противостоянии всего две.
За несколько дней до референдума в Швейцарии публично выступил Президент России.
«И в этой связи просим представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум, с тем чтобы создать необходимые условия для этого диалога…»
Эти слова неслись с сотен экранов телевизоров в Донецке и Славянске, словно холодным душем за шиворот.
– Россия нам поможет. Обязательно поможет, – говорили люди в палаточном лагере возле ОГА, но уже менее уверенно, чем в марте и апреле.
– Россия всё равно поможет, – успокаивал своих бойцов Матвеев.
И только Советник молчал. Впрочем, публичные выступления не входили в его обязанности.
Молчал Артём. Глядя в окно на надвигающееся серое утро, он вспоминал отца и его рассказы о референдуме семнадцатого марта, о том, с каким воодушевлением шли люди голосовать и каким разочарованием оно сменилось через несколько месяцев.
«У нас так не будет, – думал Артём, – у нас есть оружие, хоть и мало. Мы хоть через пень-колоду, но организованы. Мы учли уроки и защитим свою волю. Ну или хотя бы попытаемся».
Ещё накануне у командиров ополчения были сомнения, поддержат ли их граждане, но к шести утра они развеялись, как майский туман. Хотя участки для голосования открывались в восемь.
Люди шли на участки сплошным потоком, занимая очередь с глубокой ночи, и стояли в километровых очередях, и добровольцы делали всё возможное, чтобы открыть участки вовремя и хоть как-то организовать процесс…
А на участках стояли вооружённые люди в камуфляже, с георгиевскими ленточками и повязками Народного ополчения Донбасса.
– Сынок, совсем не вижу, – жаловалась Ромке Гостюхину пожилая жительница Славянска, опиравшаяся на палочку, – ты мне подскажи, где тут – за Россию, за нашу свободу проголосовать?
И Ромка, поддерживая старуху под локоть, указывал ей на графу, где значилось «ДА/ТАК».
В отличие от Юозаса, сам Ромка Сибиряк, не будучи жителем Донбасса, права голоса на этом референдуме не имел. Но руки твёрдо сжимали сталь автомата с георгиевской ленточкой, повязанной на стволе. Юозас дежурил на другом участке, и когда они расходились с утра, Ромке показалось, что его товарищ постарел, что ли, и под глазами легли синие круги… Впрочем, наверное, показалось.
Юозас находился в это время на участке в соседней школе. Он не улыбался и вообще выглядел предельно сосредоточенным, такое впечатление производило его суровое неподвижное лицо.
Они не знали, куда планировала бросить силы киевская хунта.
Это знал в Донецке Антон Александрович, и этого было достаточно.
Ближе к вечеру стало известно о провокации в Красноармейске. Но в Славянске голосование прошло спокойно.
Вечер сменяла ночь. Комиссия подводила итоги, а бойцы ждали новых приказов. Но ждали и на другой стороне.
Калныньш в силу своего служебного положения знал многое, что не знали другие.
Он знал, что массовые убийства в Одессе и Мариуполе преследовали две цели. Первая лежала на поверхности – запугать и заставить отступить восставших, а вторая тогда, в четырнадцатом, ещё не была столь ясна – враг проверял реакцию большой России. И кажется, был этой реакцией вполне доволен…
* * *
Это было вчера…
Вчера Артём получил оружие и принял свой первый бой.
Это произошло так же спонтанно и неорганизованно, как развивалось всё восстание – вспыхнул бой с украинским спецназом в районе аэропорта, и туда отправили всех, кого смогли найти, наскоро показав, как пользоваться автоматом, тем, кто держал его в руках первый раз в жизни.
Вчера Артём впервые стрелял по врагу, и враг стрелял по нему.
Да, это было странное время – сложно было назвать точный день, когда закончились праздничные демонстрации и началась война. Для семьи Шульга, как и для семьи Матвеевых, она началась второго мая. А для Артёма по-настоящему только вчера.
И только после этого их всех, включая девушек – Незабудку и Ромашку – перевели на казарменное положение, и запретили отлучки в город из здания ОГА. Пока Артём лежал на матрасе в ожидании подъёма и то ли дремал, то ли думал.
За окном светало, густая южная темень таяла в первых лучах розоватости.
В эти же минуты несколькими этажами выше состоялся разговор Советника с Матвеевым. Для каждого из них эта ночь была бессонной.
– Ты командир и должен смотреть правде в глаза, – медленно и тяжело говорил Антон Александрович, словно тяжкий груз лёг на его немолодые плечи, – отступать нам некуда, и те, кто решит остаться до конца, скорее всего, обречены. Россия к нам на помощь не придёт, – он ронял слова, словно капли расплавленного металла. – Не придёт, – повторил он, уловив искорку сомнения в глазах Матвеева.
– Вы предлагаете сдаться на милость победителя? – зло спросил Матвеев. – После Одессы и Мариуполя?