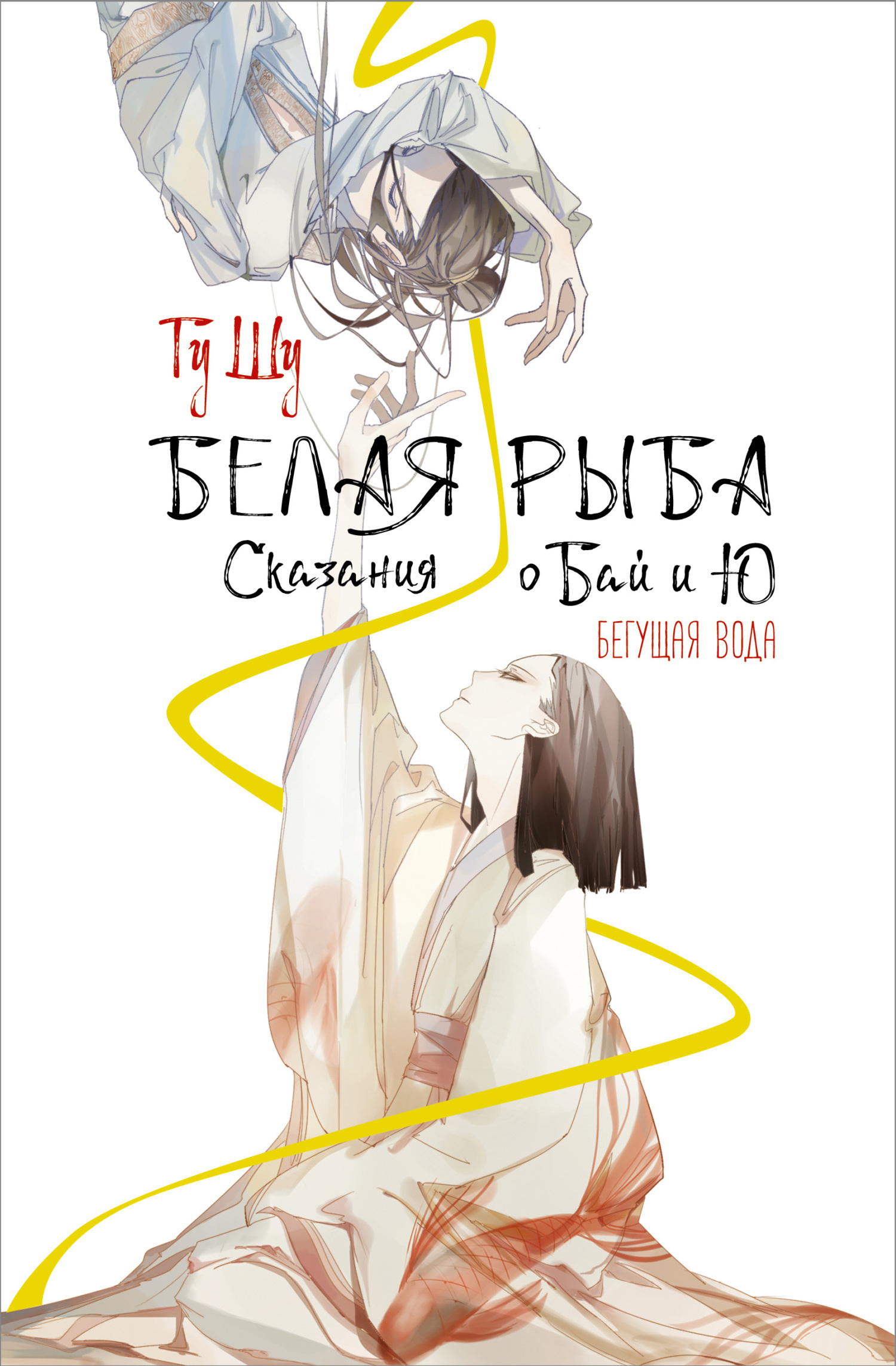не поднимал и другим велел помалкивать. Уж косари на лугу трудятся, они и услышать могут, что кладов ждать нечего, да разнесут слухи, и на Купалу сюда никто не придёт. Кузнеца попросить нужно, чтобы выковал иглы да ножницы, да продать, да купить то, чего не хватает, а что с обещанными кладами делать, после станет ясно. Утро вечера мудренее.
Пошли они к кузнецу, а кузнец-то из дивьих людей. Всё молчит да слушает, ни слова не скажет. Василий ему про иглы да ножницы, а тот молчит.
Завид его разглядывает: сед кузнец, волосы копной, половину лица за ними только и можно разглядеть. Сам от копоти, от сажи чёрен, плечом к косяку прижимается, рука натруженная, крепкая, потемневшая от работы. А взгляд под косматой бровью светел, да один только глаз и видно. Второго у него и нет.
Думает Завид: не тот ли это кузнец, что прежде жил у каменной дороги? Не к нему ли он медведя водил, кольцо снять просил? Будто похож…
Сказали они кузнецу, что хотели, да и разошлись в разные стороны. Завид по лугу бродит, по сторонам глядит, думает: может, самим зелен огонь разжечь да клад под ним спрятать? Только прежде колдун явится, его забороть надобно. Может статься, потом никакого веселья не выйдет…
Видит, Умила с Марьяшей идут, обед работникам несут. За ними серый пёс на коротких лапах поспешает. Марьяша на него покрикивает:
— Ишь, несытый! Я тебя, Волчок, уж накормила, и не гляди, не облизывайся!
Да пёс всё одно на корзину уставился с тайной надеждой, глаза блестят. Повизгивает, хвост ходуном ходит.
Дождался Завид, когда Умила с пустой корзиной назад пойдёт, да и заступил ей дорогу.
— Что же ты, — говорит, — всё стороною меня обходишь? Может, нынче тебе другой люб, припозднился я? Долго тебе меня ждать пришлось, виноват я перед тобой.
Хотел сказать, что не станет держать обиды, что любую её волю примет, да едва заговорил, тут же понял, что не отпустит, никому её не отдаст.
Подхватил он Умилу на руки, к себе прижал. Она корзину выронила, обняла его крепко, сама смеётся:
— Неужто теперь не боишься? Ведь ты меня и коснуться не смел!
А у него, и верно, голова закружилась, будто от купальского зелья, да знает он, что не зелье виновно.
— Голубка моя, — шепчет, — радость моя, краса ненаглядная!
Унёс её в лес, на густые травы, зацеловал. Все ласковые слова, какие знал, вышептал. Она то притихнет в его ладонях белой лебёдушкой, а то сама руками обовьёт, к сердцу прижмёт, чёрными глазами сверкнёт — медведица!
Лежат они на шелковом ковре, высокие травы над ними клонятся, в прорехах дубовой листвы синеет небо. Друг на друга поглядят, улыбнутся, будто в целом свете одни остались. Об ином позабыли.
Пошли у них дальше счастливые дни. Прибудет колдун на Купалу, и как ещё знать, чем кончится, сколько той радости им отмерено. Да сколь ни отмерено, всё же отнять надобно: изготовил кузнец иглы да ножницы, полевица яблоки подрумянила, нужно Завиду ехать да продавать.
В эту пору уж и луг скосили, и корчму у озера ставить взялись. Что ни день, то больше народу, да ещё ребятишки прибились. Завид их взялся расспрашивать — сироты, из милости жили в чужом дому, да таково жили, что решили к нечисти уйти. А все-то из разных деревень.
Здесь они принялись таскать, что худо лежит, да гуся у кикиморы украли и на том попались. Ох она и верещала! Завид не стерпел, заступился, они с Василием и дело ребятишкам подыскали — старый сад расчищать.
С ними Завид и поехал в стольный град на торг. Ребятишки горластые, шустрые, народ зазывать горазды.
— Яблоки сладки, съедите без остатку! — кричит один с телеги. Другие с лотками по рядам бродят, тоже покрикивают:
— Искусной мастерице игла не всякая годится! Для тонкого шитья хороша игла моя!
Это Василий для них выдумал. Бабы, ясно, умиляются, тут же всё и разобрали. Да и яблоки хорошо пошли: рано для этого товара, на всём торгу ни у кого свежих яблок нет. Дивится народ, в охотку берёт.
Завид похаживает да послушивает, о чём на торгу говорят. А разговоры-то опять о нечисти: будто в ночную пору людям всё видятся тени. Ползут, чёрные, по стенам и шепчут: поверили, мол, колдуну, извели домовых да хлевников, погнали банников? Некому вас теперь защитить!
А сами клыкастые, глаза горят…
Да вот намедни корчмарь к столу горшок нёс, а оттуда как пыхнет зелёный огонь! Тоже ведь дело неладное. И Казимир, царёв советник, нынче сделать ничего не может. Небось домовых только и умел погнать, людям теперь беда!
Ходит Завид, усмехается, догадывается, чья это работа. Некогда теперь Казимиру в Перловку заглядывать!
Как всё распродали и купили, что надобно, так и пошли в знакомую корчму, а там и Дарко, и Горазд, и Пчела, даже и Ёрш. Те встрече обрадовались. И корчмарь глядит, подмигивает — ясно, тоже помогал.
Да перед тем, как уехать, Завид к мастеру заглянул, которому оставлял задаток за колечко. Времени уж порядком прошло, думал, мастер его и не вспомнит, а тот ему колечко и подаёт.
— Как знал, — говорит, — сберёг!
Завид ему вдвое заплатил, а сам уж так доволен. Вернулся в Перловку, Умила ему на шею кинулась.
— Любый мой! — приговаривает. — Воротился!
Боялась, видно, чтобы опять не вышло как в последний раз, когда он волчьей шкурой оброс. Он её расцеловал да серебряное колечко на палец надел. Умила и ахнула:
— Да где ж ты его добыл? Ведь это будто Коровья топь той, первой нашей зимой. Ветви голые, заснеженные над чёрной водой сплетаются… Да что ты смеёшься, разве не похоже?
— Коровья топь и есть, — кивает он. — Верно ты угадала!
Да обнял её крепко, усмехается, сам уж так рад. Другие тревожатся, колдуна ждут, гадают, что будет, а ему спокойно стало. Всё-таки вышло, как увидала старая Ярогнева: прибыл в Перловку богатырь, и он, волк, прибыл. Разве это не сулит им удачу? Разве не выйдет так, что наконец он распрощается с проклятой волчьей шкурой?
Глава 31
Хорошо в лесу поутру! У опушки трава в росе, тонко пахнет белый цвет бузины, и льётся, льётся птичий щебет — и кажется, будто кроме того во всём мире ни звука. Молчат кряжистые дубы, застыли светлые берёзки, не шелохнутся.
А прислушаешься — вот птица порхнула, качнулась ветка; вот зашептались листы под ветром, а вот, раскрываясь на солнце, щёлкнула