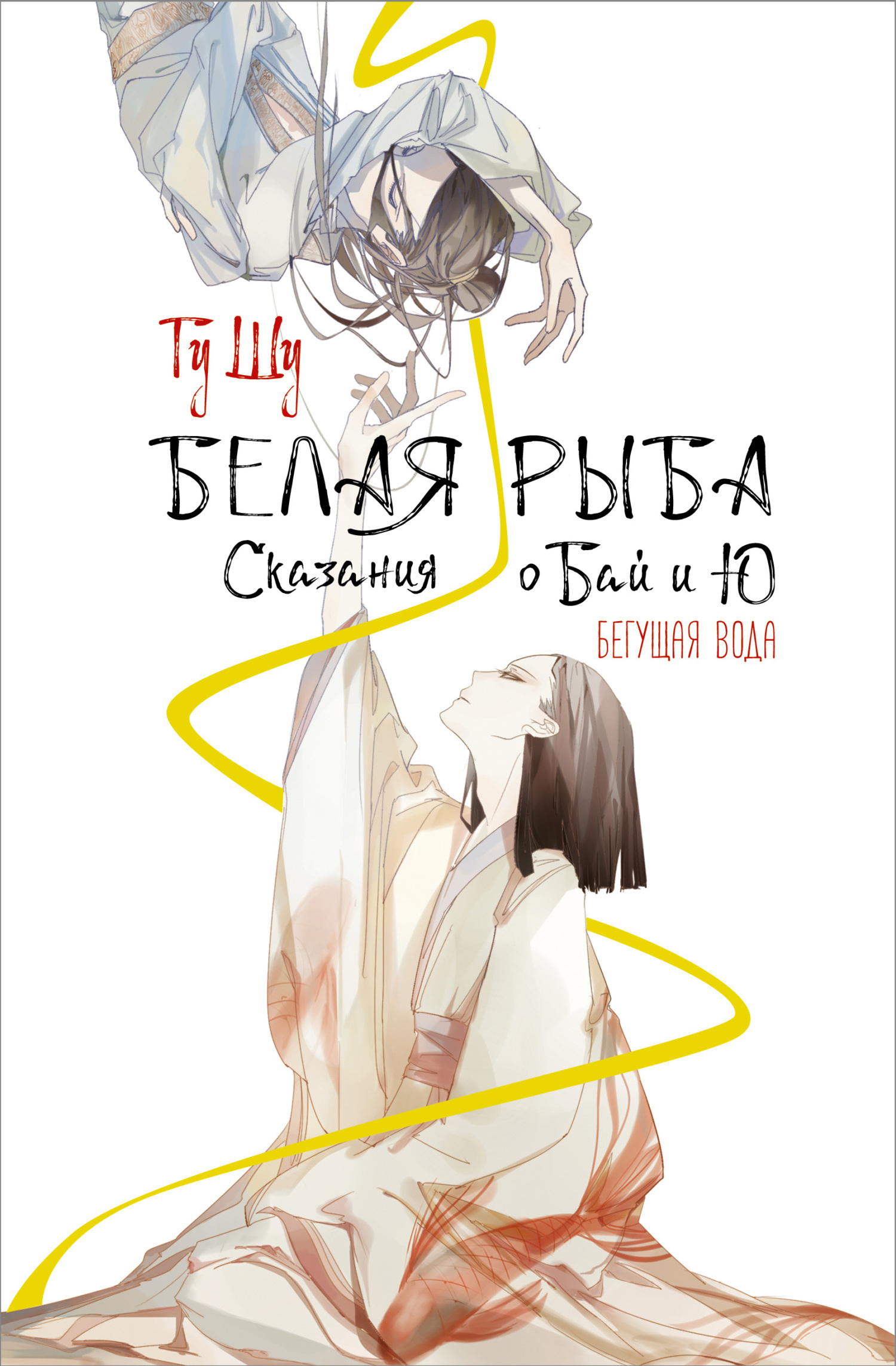да всё выспрашивает, откуда бы у Завида царицын перстень. Думает небось, краденый, только Завид помалкивает. Долго сказывать, да и надо ли? Там и правда про волка наружу выйдет. Василий будто и не хитёр, а можно ли ему довериться?
А дома Завид уж лёг и задрёмывать начал, как Василий ему и говорит: до чего, мол, хорошо, что ты приехал! Сказал, да сам тут же и уснул, а Завиду не спалось, всё усмехался. Вишь ты, будто и не лишний, на что-то способен.
Уже на другой день первые работники и пришли. Местный кузнец крепкую ограду выковал, нынче её у кладбища ставили. Ырка, говорили, там прячется днём, а ночами по полю бродит — так чтобы не бродил и лиха не чинил.
Пошёл и Завид помогать. Видит, и Добряк тут же работает, на него косится да сопит. Долго ли, коротко ли, умаялся Завид, воды хлебнул да отошёл под лесную тень отдохнуть, и Добряк за ним поплёлся. Рядом сел, уставился.
— Чё? — говорит. — Уж слыхал?
— Что слыхал? — спрашивает Завид, а сам об Умиле думает. Уж не сговорена ли за другого, а он и не ведает?
— Да про нож!
— Про какой такой нож?
— Да про колдунский!
— Теперь и услыхал, — говорит Завид. — Да ты толком расскажи.
Крякнул Добряк с досады и поведал, что служба его на послах не кончилась. Казимир ему для одного того жизнь сохранил, чтобы он в Перловке за царёвым побратимом приглядывал и докладывал, если тот что удумает.
— Я ж вам чего и велел, чтоб не совались, — говорит. — Нарочно гнал! Этот совою всё порх да порх — и товарищей, мол, изведу, и жену с дочерью, ежели хоть что не так… Да ещё велел: мол, старая нянька, как их отсылали, какой-то нож выкрала — сыщи да сыщи этот нож, и сроку дал до Купалы.
Тут Добряк тяжко вздохнул и пощипал бороду.
— А нянька-то эта, сказал, ведьма лютая. Уж так напужал, я и сунуться к ней боялся, особливо как подумаю, что Казимир и сам отчего-то к ней не полез, а меня подослал. Ну, всё же обшарил её избёнку — нет ножа. И тут недомыки эти…
Он тревожно огляделся и, не увидав никого рядом, продолжил:
— Царевич да богатырь этот, Василий, невнарок и отыскали нож, а что в нём сила особая, и не ведали. Давай с ним за берестой ходить да репу чистить! А я, слышь-ко, уж до того дошёл, что и жизнь не мила. Уж думаю, наложу на себя руки, тогда, может, лиходей этот Умилу да Баженку не тронет. Тут и углядел нож, а он особый, с другим не спутаешь. Взял его, да Казимиру и отдал!
— Да что ж за нож-то? — спрашивает Завид. — Что в нём за сила?
— Да в нём смерть-то Казимирова и была! Знал бы, своими руками изломал!
И поведал Добряк о том, что после узнал, как местные сход собрали.
Давным-давно, как народился царевич, всё и началось. Уж такое ладное да пригожее было дитя, а поутру — глядь! — окно растворено, а в зыбке лежит уродец большеголовый, глаза косые, на маковке куриный пух. Ясно, подменили, да ведь окно не чужой человек отворил. В царский терем-то не всяк мог войти.
Сама царица тогда пошла на перепутье дорог. Чёрт ей явился, он и поведал, что сын подменён водяными, а помогала им Рада. Не научил он, как извести подменыша, не сказал, как сыскать царевича, а только и дал нож да велел беречь пуще зеницы ока. Мол, покуда тот нож цел, жив и царевич. Царица и берегла — ясно, мать. Ежели хоть что для дитя может сделать, хоть этакую малость, так уж сделает.
Она о ноже и царю не сказывала, так ей чёрт велел. Да няньке доверилась, ей проговорилась.
А нянька-то Ярогнева не проста была, только о том помалкивала. Многие уж ходили к царевичу люди, знахарки да шептухи, да колдуны. А проклятье-то хитрое, не каждый его разглядит; всё же, бывало, видели, только царица твердила, что сын её подменён. Ведь ей чёрт так сказал. Кто иное говорил, тех она гнала, вот Ярогнева и смолчала.
Как слали их в Перловку, нянька нож тот выкрала. Поняла, что он с проклятьем связан, билась, билась — всё же не вызнала, что с ним делать. Да только уж после, как собрали сход и каждый сказал, о чём ему известно, правда и открылась.
— Богатырь этот, Горыня, вот чего поведал, — сказал Добряк. — Будто колдуна этого изловили в чужедальних землях и смерти предать хотели, было за что, да он и в огне не горит, и в воде не тонет, всё смеётся: смерть, мол, моя в игле, а игла в яйце, а оно в ларце. Да как-то и убёг. Пустились за ним вдогон три богатыря: один, Горыни батюшка, так и сгинул, а двое воротились и сказали, будто одолели проклятого.
— Что же, и без иглы одолели? — спросил Завид.
— Да ты дослушай! Ну, будто одолели. Годы идут, а один из богатырей и на день не стареет. Тут второй и смекнул, что вовсе не с побратимом вернулся — это колдун его облик принял и, вишь ты, укрылся у всех под носом. Да, видно, он вдругорядь такого проделать не мог, и как слухи пошли, убёг. Ну, Горыня за ним следом пустился, тут нагнал. Стоит перед сходом, распыжился — я, мол, иглу сыщу, я сыщу! — тут старуха и докумекалась, что тот чёрт, может, Казимиром и был, и знал, что за ним погоня и нож укрыть надобно, вот и укрыл куда как надёжно!
Вцепился тут Добряк в бороду, мало клок не вырвал.
— И ведь я про иглу от него слыхал! — кричит. — Отчего ж я не догадался-то!
— Да ведь тут не вдруг догадаешься, — утешил его Завид. — Да отчего ж ты Умилу с Баженой сюда пустил? Кабы не вышло беды…
— Да мне так спокойнее, — говорит Добряк. — Богатыри тут, да я и сам пригляжу… Ну, заболтался с тобой! Дел-то невпроворот.
Вернулись они к трудам, и всё будто ладно шло, да явилась беда, откуда не ждали. Хотели припасов купить, чтобы было чем работников кормить, если народ повалит, а покупать на что? Стали искать кладовика, тут и открылось, что кладовика никакого нет. Василий по всей Перловке бегает да расспрашивает, кто его своими глазами видал, а выходит, что никто.
Вот уж это беда так беда.
Крепко Завид задумался, а там и сказал, чтобы Василий шума