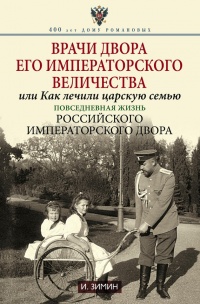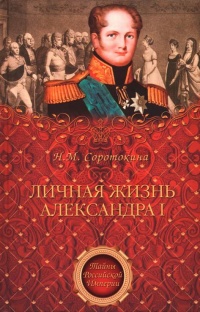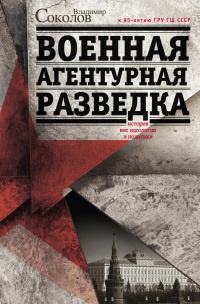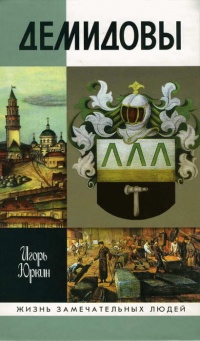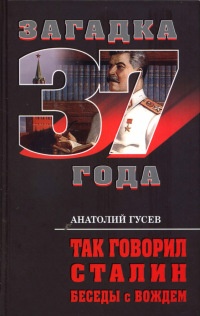Екатерина Павловна сказала, что она имела разговор с братом и что он по-прежнему расположен к Карамзину. Наверное, Карамзин воспринял ее слова как желание утешить его и вряд ли поверил им до конца. Но подтверждением справедливости сказанного ею как будто бы может служить свидетельство Дмитриева в его воспоминаниях: «Государь, возвратясь из Твери, изволил сказать мне, что он очень доволен новым знакомством с историографом и столько же отрывками из его „Истории“, которые он, в первый вечер, прослушал до второго часа ночи. Даже изволил вспомнить, что было читано: о древних обычаях россиян и о нашествии монголов на Россию».
В апреле, то есть месяц спустя, Екатерина Павловна гостила в Петербурге и снова говорила с императором о Карамзине. Конфликт, во всяком случае, внешне, был окончательно улажен. 12 апреля великая княгиня писала Карамзину из Петербурга: «Наш дорогой император в добром здравии… Он поручил мне передать Вам его приветствия». Однако неприязнь к Карамзину Александр преодолел только через пять лет: до 1816 года Карамзин не получил ни одного «знака императорской милости», царь, казалось, демонстративно игнорировал его.
Не следует преувеличивать значение царской немилости для самого Карамзина. Скорее всего, он предполагал такой поворот событий и подготовился к нему заранее. После выказанного ему императором «охлаждения или неудовольствия»
Карамзин тотчас сориентировался и выбрал линию поведения. Вообще в трудных обстоятельствах он никогда не терял присутствия духа, не отчаивался, трезво оценивал обстановку и старался найти выход.
Неудовольствие царя «Запиской о древней и новой России…» было столь явно, что не понять его было нельзя. И Карамзин это понял. Наверное, обращаясь к Дмитриеву, постоянному своему ходатаю перед царем, он должен был бы просить о новом заступничестве, но вместо этого рассказывает об оказанных ему милостях, как будто ничего не произошло.
Конечно, сделано это намеренно. Действительно, о каком ходатайстве или заступничестве могла идти речь, когда в основе конфликта лежало различие убеждений? Карамзин своих не собирался менять, царь тоже. В этих обстоятельствах Карамзин избрал совершенно четкую и последовательную тактику: попытка стать советником царя не удалась, он возвращается в прежний статус историографа. Учитывая конфиденциальность акции (В. А. Жуковский писал, что Карамзин не оставил себе копии «Записки…», потому что «был так совестлив, что у себя не хотел иметь того, что для всех должно было остаться тайною»), Карамзин мог считать ее формально как бы и не бывшею. Так он и ведет себя.
Кстати, весьма вероятно, что слова царя, сказанные Дмитриеву о том, что он доволен знакомством с историографом, были вызваны сообщением Дмитриева, основанным на письме Карамзина, что тот «совершенно доволен» вниманием царя и «предан ему навеки». Иного Александр просто не мог сказать после таких уверений.
22 марта Карамзин с Екатериной Андреевной выехал в Москву. Перед отъездом он попросил великую княгиню вернуть ему «Записку о древней и новой России…». «„Записка“ Ваша теперь в хороших руках», — ответила Екатерина Павловна.
Ее увез Александр. Видимо, позже он перечитывал «Записку…» и обсуждал с кем-то из наиболее приближенных лиц, но также втайне, потому что при его жизни о ее существовании никто не знал, и она была обнаружена лишь в 1836 году при разборе бумаг А. А. Аракчеева, умершего в 1834 году.
Раз от разу путешествия в Тверь (а Карамзину пришлось совершить их еще несколько после свидания с царем) становились для него тягостнее. «Отдыхал и отдыхаю после тверских путешествий, — пишет он Дмитриеву в апреле, — собираюсь с мыслями и стараюсь возвратиться в свое прежнее мирное состояние духа, т. е. от настоящего к давно минувшему, от шумной существенности к безмолвным теням, которые некогда также на земле шумели». «После трех путешествий в Тверь отдыхаю за „Историей“, — сообщает Тургеневу, — и спешу окончить Василия Темного: тут начинается действительная история российской монархии: впереди много прекрасного». Дмитриеву 1 мая: «Она (великая княгиня) зовет нас в Тверь. Люблю ее душевно и признателен ко всем ее милостям; однако ж, будучи усердным домоседом, не пленяюсь мыслию скакать по большим дорогам и жить дней по десяти в праздности и беспокоиться о детях. Время летит, а „История“ моя ползет. Хотелось бы дойти скорее хоть до Романовых и напечатать, пока есть сила в душе и зрение в глазах». Брату 30 мая: «Мы с детьми прожили в деревне только две недели и возвратились в Москву с тем, чтобы завтра ехать в Тверь дней на восемь. Как ни приятно нам пользоваться милостью прелестной великой княгини, однако ж грустно расставаться с малютками, да и моя „История“ от того терпит. Впрочем, любя искренно великую княгиню, не могу не исполнить ее воли. Она пишет ко мне самые ласковые письма и желает познакомить меня с отцом принца, который теперь у них гостит. Человек редко умный и добродетельный. Наполеон отнял у него Ольденбургское герцогство».
В конце 1811-го — начале 1812 года Карамзин несколько раз отказывался от приглашения: то по причине собственной болезни, то из-за беременности жены. Свое отношение к царю он ограничивает исполнением принятого на себя труда историографа. «Милость государеву чувствую, — пишет он Дмитриеву, — а благодарность моя должна состоять в усердии к работе, которая удостоилась его одобрения». «Милость велика; однако ж, любезнейший братец, я совсем не думаю ехать в Петербург, — объясняет он брату. — Привязанность моя к императорской фамилии должна быть бескорыстна: не хочу ни чинов, ни денег от государя. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к мирской суетности».
Однако разговор по темам «Записки о древней и новой России…» с великой княгиней и через нее с царем Карамзин пытается продолжить. Он дарит Екатерине Павловне ко дню ее ангела 24 ноября 1811 года альбом с собственноручными выписками из сочинений различных авторов из Ветхого Завета — из книг Иисуса, сына Сирахова и Иова; из Руссо, Боссюе, Бюффона, Паскаля, Монтеня, Мильтона, Попа и других философов и писателей разных эпох и народов. Все эти цитаты подтверждают ту или иную мысль Карамзина: о естественности и постепенности развития общества и государства; о необходимости учитывать дух времени и народа и уважать устройство и обычаи, освященные временем; о нравственности как основе политики; об осторожности в самооценке своей роли правителями, ибо судьба народов и государств зависит от воли Провидения.
Идеи Карамзина, изложенные им в «Записке о древней и новой России…», для их понимания и восприятия требуют определенных знаний и в еще большей степени опыта самостоятельности мышления. Либералы его времени (и последующих времен) клеили на Карамзина ярлык крепостника и монархиста. Под влиянием либеральной пропаганды в юности находился и А. С. Пушкин. В одном из сохранившихся фрагментов записок, сожженных им при получении известия о восстании 14 декабря 1825 года, Пушкин писал о Карамзине: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: „Итак, вы рабство предпочитаете свободе“. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился». Пушкин в первой половине 1820-х годов, назвав общепризнанные «реакционные» идеи Карамзина парадоксами, судя по контексту, еще в достаточной степени верит общему мнению, но уже сомневается в его справедливости. С годами постижение истинного значения идей Карамзина углубляется. В статье 1830 года «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (опубликованной после смерти автора) Пушкин солидаризируется с одним из «парадоксов» Карамзина о вреде «свободы книгопечатания»: «Один из великих наших сограждан сказал мне… что если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Все имеет свою злую сторону…» (возможно, последняя фраза представляет собой воспроизведенную по памяти цитату из «Записки…»: «Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла»).